Глава 1. Возможные миры в фантастической литературе XX века
1.1. Представление о фантастике.
В том, что теория возможных миров нашла отклик в научной фантастике, нет никакого сомнения. Дадим определение научной фантастике как литературному жанру.
БЭС даёт следующее определение: «разновидность художественной литературы; её исходный идейно-эстетической установкой является диктант воображения над реальностью, порождающий картину «чудесного мира», противопоставленного обыденной действительности и привычным, бытовым представлениям о правдоподобии».
Из этого определения можно сделать вывод, что если нет событий реального и нереального мира, то и нет фантастики. Объект фантастики находится в потенции, а предметом можно считать реальность, воссоздаваемую в форме фантастических художественных образов. Именно образ несуществующего придаёт фантастике схематическую условность.
Из выше сказанного мы делаем вывод, что фантастика – это моделирование возможных течений событий в «одном и том же действительном мире, одновременное осуществление которых может исключать друг друга».
На данный момент нет единой классификации жанров фантастики. Множество литературоведов предлагали свою классификацию фантастики. Константин Мзареулов предлагал разделить фантастику дна 6 жанров: научная, космическая опера, фэнтези, хоррор, боевик и триллер, эротическая фантастика, условная фантастика и произведения на стыке жанров. Д. Уоллхейм в своих работах различает «литературу возможного», «литературу чудесного и таинственного» и повествование о «заведомо невозможном». Т. Чернышева в книге «Природа фантастики» разграничивает жанры фантастики по фантастическим образам: связанные со сказками, со средневековой мифологией и народными суевериями. Ольга Чигиринская определяет фантастику по комбинации характерных хронотопов: утопия (невозможное место), ухрония (невозможное время) и ускевия (невозможная вещь в подчёркнуто реальном хронотопе).
В данной работе мы представим общее представление о жанрах фантастики:
1) Научная фантастика - отличительная особенность этого жанра является рациональность, убедительность и обоснованность фантастического допущения с точки зрения науки. В энциклопедии фантастики под редакцией Владимира Гакова этот жанр делится на поджарны, такие как:
- «твёрдая» научная фантастика – фантастический элемент используется как сама цель и не допускает иносказательности (Ж. Верн)
- «естественно-научная» фантастика
- «научно-техническая» фантастика
- «гуманитарная» фантастика
- «фантастика идеи»
- «утопия»
- «антиутопия» и т.д.
2) Социальная фантастика – главная цель - раскрыть законы развития общества, выразить социальную критику и заботу о судьбах человечества. Яркими представителями этого жанра являются Д. Оруэлл, Р. Брэдбери, братья Стругацкие.
3) Фэнтези – жанр, основанный на использовании мифологических и сказочных мотивов. Также разделим на жанровые подгруппы:
- по сюжету: мистическое, романтическое, мифологическое фэнтези
- по ценности: героическое, юмористическое, пародийное фэнтези
- по мировоззрению: научное фэнтези, технофэнтези
- по адресату: детское, женское фэнтези
4) Ужасы (хоррор) – в основе лежит сюжет о беспомощности человека перед сверхъестественными силами. Представителями данного течения является С. Кинг, Г.Ф. Лавкрафт.
Как видно из данной классификации фантастика представляет собой разнообразие видов и форм. Для наиболее чёткого понимания фантастики как явления, рассмотрим такое понятие как границы жанра.
Споры о границах жанра привело к двум подходам к определению фантастики. Первый подход заключается в том, что фантастику считают жанром литературы и искусства. Этому подходу придерживается Ольга Чигиринская в докладе «Фантастика: выбор хронотопа». Она называет фантастику жанром и определяет «невозможный хронотоп», как жанрово образующую черту.
Сторонники второго подхода считают, что фантастика лишь художественный приём или метод создания текста (фантастическое допущения). Борис Стругацкий в «Что такое фантастика?» писал: «введение в произведение элемента необычайности делает фантастику фантастикой».
Истоки фантастики как приёма мы наблюдаем ещё в пост-мифологическом фольклорном сознании – в первую очередь в волшебных сказках. Началом всей западноевропейской фантастики можно считать «Одиссею» Гомера – здесь встречаются первичные признаки утопии и фантастического путешествия. В средневековой литературе мы также наблюдаем признаки фантастики – например в легендах о короле Артуре или в рыцарских романах. В 17-18 веках приём фантастики использовался такими писателями как Джонат Свифт («Путешествие Гулливера»), маркиз де Сад, Сирано де Бержак. Немецкие романтики: Гёте («Фауст»), Э.Т.А. Гофман («Золотой горшок») писали реалистическую повесть с фантастическими элементами. В России романтическую фантастику представляют В.А. Жуковский, В.Ф. Одоевский, А.С. Пушкин (на примере «Руслан и Людмила») Готическую традицию начинает Э.А. По («Падение дома Ашеров»). Во всех перечисленных выше примерах фантастика использовалась только лишь как приём, для достижения определенных целей.
В начале XX века фантастика стал трансформироваться как жанр. Ключевой фигурой стал Г. Уэллс («Машина времени», «Война миров» и т.д.) – он стал родоначальником научной фантастики. В истории в это время случился научно-технических прогресс, который способствовал появлению многих писателей-фантастов и расширил жанр фантастики на разные поджанры.
На данный момент фантастика находится на границе жанра и метода.
1.2. К теории вопроса.
Представление о возможных мирах можно наблюдать на протяжении всей истории человечества, но особо этот вопрос обострился в начале XX века, когда была открыта теория относительности и время стали считать четвёртым измерением. С развитием научной фантастики возможные миры появились в творчестве таких писателей-фантастов как С. Лемма, А. Азимова, Р. Брэдбери, братьев Стругацких. Рассмотрим происхождение такого понятия, как «возможные миры».
Рождение семантики возможных миров принято связывать с философскими взглядами Готфрида Лейбница и его утверждениями о том, что божественный разум «непременно и извечно содержит варианты бесконечного множества миров, но Бог выбирает лучший из этих миров, творя его таким, каков он есть».
Идея возможных миров развивалась на протяжении долгого времени, но более подробно её изложил философ и логик Я. Хинтикки. В его интерпретации возможные миры предстают как «возможное положение дел, либо как возможное положение событий», т.е. главной отличительной чертой является то, что возможные миры рассматриваются как другой вариант реального мира. Также тезис «возможные миры - это вероятное положение дел по отношению к субъекту, находящемуся в мире реальном и который своё реальное «я» проецирует в иные мыслительные пространства» раскрывает тесную взаимосвязь между восприятием, знанием, верой, т.е. с личной установкой индивида.
Среди всего многообразия возможных миров крайними по своим принципам считаются концепции Сола Крипке и Дэвиса Льюиса. Крипке рассматривает реальный мир как один из множества логических миров, а последние – как некоторые абстрактные понятия, служащие для интерпретации закономерностей действительности. Льюис придерживался модальному (или «крайнему») реализму, который утверждал равноправие всех существующих миров.
Из теории возможных миров выходит теория текстового пространства. М.Л. Райан вводит понятия рецентрирования, которое подразумевает собой то, что возможный мир может временно становиться реальным. Это происходит за счёт перемещения параметров реального мира в сторону альтернативного. Из этого следует, что с точки зрения обитателей возможных миров, возможный мир – это всегда реальный мир. С этой точки зрения вымышленный мир рассматривается как временный реальный.
В настоящее время, семантики возможных миров используются для определения значения выражений, семантический статус которых зависит не от единственного, а от возможных положений дел, где доминирует многоуровневое описание истинного значения: «конструируются комплексные модели, сочетающие понятия возможного мира, момента времени, субъекта произнесения (миры наблюдателя) и субъектов пропозиционных установок (миры знающих)».
Главным элементом возможного мира является понятие индивида. Он объединяет в себе события и явления возможного мира, через него даётся оценка воспроизведенного возможного мира. Пафос философии возможных миров в том, что абсолютной истины нет, она зависит от наблюдателя и свидетелей событий.
Теория возможных миров, рассматриваемая в литературоведческом ключе, ставит задачей определение литературной истины, изучении природы вымышленного и установлениями связей миров литературы с «реальными».
Также возможные миры рассматриваются не с точки зрения построения текста, а как ментальный мир, материализованный в языковом знаке. Возможные миры существуют в виде языковой модальности – модальность возможных миров. Доказано, что эта модальность проявляется через определённые языковые конструкции «если бы… то», «если… то», «или… или», «бы + инфинитив». Таким образом в тексте возможные миры проявляются не только с точки зрения конструкции, но и с точки зрения модальности.
Из выше сказанного мы делаем выводы:
1) возможный мир рассматривается как мысленный эксперимент, который базируется на действительном мире;
2) индивид – основной элемент создания возможного мира, который может быть тождественен другим мирам:
3) возможные миры существуют с точки зрения языковой модальности
Глава 2.
Братья Стругацкие внесли огромный вклад с развитие советской фантастики. Рассмотрим, какие виды условностей фантастики мы встречаем у Стругацких.
1) Технологическая утопия – в реалистичный мир вторгается фантастический элемент. Он является основной целью описания («Изгой»);
2) Пародия на технологическую утопию – тот же сюжет, что и в первом пункте, но просматривается противоречие между сутью фантастических мотивов и их формальной функцией («Понедельник начинается в субботу»);
3) Социально-технологическая утопия – фантастический элемент становится миром («Страна багровых туч»)
4) Современная научная фантастика - разработанный мир утопии является фоном для главного действия – переживании героя. Фантастический элемент правдоподобный, реалистично описан. («Пикник на обочине», «Трудно быть богом»);
5) Произведения «современного течения» - фантастический элемент вторгается в реалистично представленный мир.
В повести «Трудно быть богом» мы наблюдаем несколько принципов построения возможных миров, но сначала разберём нарратологическую структуру текста для того, чтобы более чётко понять организацию повествования и выделить повествователя.
Текст повести обрамляет пролог и эпилог, которые создают повествовательную рамку вокруг основной сюжетной линии – так называемый «текст в тексте». В прологе мы видим Землю будущего, на которой дети играют в «Арканар» - они используют ту же топографию и имена, что и в основной сюжетной линии. Но откуда дети знают о Арканаркой реальности? Здесь есть два предположения: либо вся Арканарская часть это экстраполяция выдумки, словесной конструкцией, либо земляне настолько давно наблюдают за этим государством, что его реалии тесно вошли в мифологию и культуру.
Подробнее рассмотрим первый случай. Рассказчиком истории Дона Руматы является Пашка. Если рассматривать возможный мир относительно позиции индивида, то Пашка создаёт своим рассказом возможный мир в форме игры воображения. Тогда возможный мир так и остаётся нерешенным возможным миром в текстовом пространстве. И основным сюжетом является пролог и эпилог, где в прологе дети ещё маленькие, а в эпилоге – подростки. Такое построение сюжета предельно просто: авторы создают возможный мир относительно читателя, повествователь создаёт относительные миры относительно повествования. Получается некий возможный мир в возможном мире.
Относительно читателя авторы создают один возможный мир, который разделен на три временных периода: эпилог – детство Антона и мечты о покорении Арканара, основная часть – Антон на Арканаре, эпилог – Антон вернулся с Арканара на Землю будущего. Получается простая история жизни, которую пересказывает (основная часть и эпилог) Пашка. В прологе мы наблюдаем образ дороги – анизотропное шоссе, дорога в одном направлении. Именно это шоссе является аллегорией времени.
Но откуда Пашка занает всё это на тот момент, когда Антон якобы еще, только возвращается с Арканара? Можно предположить, что люди, которые изучают это государство – достояние республики. За ними ежесуточно следит большая аудитория и наблюдает за этим действием. Но откуда Пашка знает те же мысли дона Руматы? И почему Анка не знает об это всём? Можно предположить, что вернувшись с Арканара, Антон встретился с Пашкой, как с лучшим другом и рассказал свою историю. А через некоторое время он захотел встретиться и с Анкой. В доказательство этому можно привести диалог в эпилоге: «- Слушай, Паша, - сказала Анка. – Может быть не стоило приезжать сюда? – нет, что ты! Я думаю он тебе обрадуется … - А с тобой как он? – Никак. Терпит.»
Мы склонны придерживаться второй версии, потому что повествовательная организация текста указывает именно на неё. Оставив рамку, обратимся к основной части текста, не беря во внимание читателя, рассказчика и авторов.
Рассмотрим построение возможных миров относительно индивида. Ведь как было сказано в первой главе, он играет основополагающую роль в создании оценке и объединяет в себе события возможных миров.
Румата-Антон как раз и является проводником между двумя мирами: Арканаром и Землёй будущего. Хотя относительно землян будущего арканарская реальность – мир настоящий, то относительно читателя и Земля будущего, и Арканар – возможный мир. Образ Антона, являющийся частью двух миров, служит для читателя проводником для создания образа возможного будущего.
Стругацкие рисуют полную картину Арканара, беря за основу Средневековье нашего (читательского) мира. Но Землю будущего они обозначают с помощью артефактов или упоминаний о нём. Например: «Румата пробрался в дальний угол и включил электрический фонарик. Там, под грудой хлама стоял в прочном силекетовой сейфе малогабаритный полевой синтезатор «Мидас».
Также возможный мир можно проследить в чисто арканарской реальности. Разберём отрывок текста: «Горожанин прошел рядом. Он держал шляпу в руке, и не его темени светлела изрядная лысина. Приказчик, подумал Румата. Ходит по баронам и прасолам, скупает лен или пеньку. Смелый приказчик, однако… А может быть, и не приказчик. Может быть, книгочей. Беглец. Изгой. Сейчас их много на ночных дорогах, больше чем приказчиков… А может быть шпион». В этом отрывке мы наблюдаем, как в один момента времени персонаж становится одновременно приказчиком, книгочеем, беглецом, шпионом – этими самыми предположениями создаются возможные миры, в которых персонаж имеет несколько ипостасей. «Истинное утверждение» так и не осталось решенным.
Мы знаем, что легенды это тоже своеобразные возможные миры. Они и существуют Арканарской реальности. «Говорили, что по ночам с Отца-дерева крчит птица Сиу, которую никто не видел и которую видеть нельзя, поскольку это непростая птица». Здесь миры создаются с помощью лексики: «говорили», «кое-кто видел», «поговаривали». Мы знаем, что легенды это тоже своеобразные возможные миры, которые создаются народами, в данном случае народом Арканара.






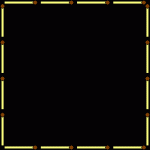







 (zip - application/zip)
(zip - application/zip)










