Толерантность и мультикультурализм как процессы современного общества
Актуальность темы исследования.
Развитие современного общества может рассматриваться как процесс динамического взаимодействия множества различных культур, каждая из которых обладает своими, только ей присущими традициями, обычаями, моделями взаимодействия. Ценности одной культуры часто несовместимы с ценностями других, а иногда и настолько специфичны, что их адекватное понимание (а зачастую и признание) доступно только тем, кто принадлежит к данной культуре или наделен достаточно чутким историческим видением, свободным от этноцентристских догм (этноцентризм– предпочтение своей этнической группы, проявляющееся в восприятии и оценке жизненных явлений сквозь призму ее традиций и ценностей) и предрассудков. Непонимание и нежелание уважать и признавать ценности чужой культуры часто приводят к нетерпимости, дискриминации и даже к прямой агрессии по отношению к ней.
Общество как носитель символических культурных программ может воспроизводиться и развиваться только при условии сохранения, взаимодействия и прогресса составляющих его этносов, их языков и культур. Действительное принятие многообразия заставляет современное общество отказываться от всяких проявлений нетерпимости и стремиться к цивилизованному разрешению конфликтных ситуаций, т. е. идти от modus vivendi (лат. modus vivendi — образ жизни, способ существования) к признанию и в итоге к взаимному уважению и пониманию других социальных групп. Важнейшие препятствия на этом пути — невежество и высокомерие, которые можно считать основными причинами возникновения стереотипов, предубеждений, ненависти и дискриминации в культурном, религиозном, расовом и этническом контекстах.
В последние десятилетия развитие общества протекает в русле общемирового интеграционного процесса, в котором наблюдается интенсивное смешение различных этносов и этнических культур. В глобализирующемся социуме человек постоянно находится на рубеже культур, взаимодействие с которыми требует от него диалогичности, понимания, уважения к культурной идентичности других людей.
Теория мультикультурализма, являющаяся одним из специфических проявлений глобализационных процессов и отражением постнеклассических тенденций в современной социальной философии, возникла как ответ на вопрос «Что произойдет с национальными культурами в эпоху глобализации?». Мультикультурализм представляет собой совокупность воззрений, провозглашающих примат «культурного разнообразия» над этнокультурной гомогенностью государств и направленных на решение этноконфессиональных и социокультурных проблем современного социума.
В начале XXI в. элементы мультикультурализма можно обнаружить в общественной жизни практически любого многонационального государства, даже если официально политика мультикультурализма в нем не провозглашается. Но в каждом государстве практика мультикультурализма имеет свою специфику, основываясь на одной из множества мультикультуралистских теорий. Наиболее актуальными сейчас являются модели «мягкого» и «жесткого» мультикультурализма, разработанные на основе философских концепций С. Бенхабиб, У. Ким-лики, Дж. Ролза, Ю. Хабермаса.
Глобализация, набирая обороты, затрагивает все больше сторон жизни современного общества, порождая тем самым активное противодействие себе. Резкие вспышки национализма, сепаратизма и этнорелигиозного терроризма заставляют задуматься о перспективах сосуществования национальных культур в будущем. Мультикультурализм позиционирует себя как идеология, способная предотвратить возможное «столкновение цивилизаций» посредством согласования основных ценностей, развития единых социальных норм и воспитания в обществе толерантности к проявлению иного. Критики мультикультурализма, напротив, усматривают в практике принятия чужих культур опасность релятивизма и размывания национальной идентичности, утверждая, что толерантности должны быть поставлены жесткие пределы.
Мультикультурализм — политика, направленная на развитие и сохранение в отдельно взятой стране и в мире в целом культурных различий, и обосновывающая такую политику теория или идеология. Важным отличием от политического либерализма является признание мультикультурализмом прав за коллективными субъектами: этническими и культурными группами. Такие права могут выражаться в предоставлении возможности этническим и культурным общинам управлять обучением своих членов, выражать политическую оценку и так далее.
Мультикультурализм противопоставляется концепции «плавильного котла» (англ. melting pot), где предполагается слияние всех культур в одну. В качестве примеров можно привести Канаду, где культивируется мультикультурализм, и США, где традиционно провозглашается концепция «плавильного котла».
Мультикультурализм — один из аспектов толерантности, заключающийся в требовании параллельного существования культур в целях их взаимного проникновения, обогащения и развития в общечеловеческом русле массовой культуры. Идея мультикультурализма выдвигается главным образом в высокоразвитых обществах Европы, где издавна существует высокий уровень культурного развития. В современной Европе мультикультурализм предполагает прежде всего включение в её культурное поле элементов культур иммигрантов из стран «третьего мира» (в том числе из бывших колоний европейских стран).
Критики мультикультурализма утверждают, что в итоге получается полное разрушение многовековых культурных устоев, развитых культурных традиций, т. к. подобное смешение всегда ведёт к усреднению. По их мнению, если низкий уровень культурного развития мигрантов несомненно повышается, то высокий уровень культуры целевой страны мультикультурализма неизменно падает.
В 2010-е годы ряд лидеров европейских стран, придерживающихся правых, правоцентристских и консервативных взглядов (А. Меркель, Д. Кэмерон, Н. Саркози), заявляли, что считают политику мультикультурализма в своих странах провалившейся.
Критики мультикультурализма могут стоять на позиции культурно-социальной интеграции различных этнических и культурных групп в соответствии с существующими законами и ценностями страны. Помимо этого, критики могут настаивать на ассимиляции различных этнических и культурных групп, приводящей в итоге к единой национальной идентичности.
Россия
Постоянный представитель России при НАТО Дмитрий Рогозин, выступая 8 сентября 2011 года на третьем Мировом политическом форуме в Ярославле с докладом по национальному вопросу, обрушился с критикой на европейскую политику мультикультурализма:
Идеология «мульти-культи» сформирована левацким послевоенным движением как реакция на европейский нацизм и фашизм и представляет собой «другую крайность». Предполагалось, что новая европейская культура полностью отрешится от консерватизма, национализма и христианской религиозности — и станет удобной «толерантной» средой для снятия старых конфликтов и адаптации вновь прибывающих иммигрантов из стран Юга к «свободному миру». Произошло прямо обратное: радикально ослабленная «автохтонная» культура Европы ничем не привлекала иммигрантов (в отличие от социальных благ и мечты о «красивой жизни»). Массово переезжая в Старый свет, они сохраняли свою самобытность и обособлялись от «безликих европейцев».
Сейчас в Европе нет конфликта христианства и ислама, поскольку европейская христианская цивилизация искусственно ослаблена секуляризмом и левацкой «культурной революцией». Мусульмане Европы религиозно крепче и солидарнее, чем коренное население, и держатся своих корней, образуя целые этнические кварталы. Я сейчас временно живу и работаю в Брюсселе и могу вам сказать, что местная полиция порой не рискует просто так заглядывать в так называемые арабские кварталы своей столицы.
«Толерантность» и «мультикультурализм» в европейском исполнении работают не на интеграцию иностранцев или тем более их ассимиляцию (как в прошлые века), а на сегрегацию и создание «пятой колонны» Юга, которая не прочь взорвать «безбожный Запад» изнутри. При этом интеграционные механизмы (образование, армия, профессиональная социализация и др.) работают хорошо, но охватывают лишь малую часть иммигрантов. И вот я делаю вывод: интеграция возможна только в сильную доминирующую культуру, а не в «толерантность» и «безликость».
— Русские хотят не привилегий, а равноправия и справедливости // Аргументы Недели #36(277), 15 сентября 2011
Там же, на Ярославском форуме, выступил с докладом председатель Конституционного Суда РФ Валерий Зорькин. Он рассказал о кризисе теории национального государства и об альтернативной концепции национально-государственной интеграции различных этноконфессиональных групп, получившей название мультикультурализма, а также о ее провале.
Канада
Около 20 % сегодняшних граждан Канады родились за пределами страны. Недавние иммигранты в основном сосредоточены в Ванкувере, Монреале и Торонто. Мультикультурное наследие канадцев было официально признано в Конституционном акте 1982 годапремьер-министром Пьером Эллиотом Трюдо, вместе с введением Канадской хартии прав и свобод, в которую включена статья 27, утверждающая, что «Хартия должна толковаться в соответствии с сохранением и укреплением мультикультурного наследия канадцев».
Критика из Квебека
Многие квебекцы, несмотря на официальную национальную политику двуязычия, считают, что мультикультурализм угрожает их национальной идентичности. Квебек имеет тенденцию к поощрению межкультурных связей, приветствуя людей любого происхождения, настаивая при этом, что они интегрируются во франкоязычную культуру большей части Квебека. В 2008 году, в ходе консультации Комиссии по проживанию, обсуждающей культурные различия, которую возглавляли социолог Жерар Бушар и философЧарльз Тейлор, было признано, что Квебек является де-факто плюралистическим обществом, но канадская модель мультикультурализма «не очень хорошо проявляется в условиях Квебека». Комиссарами комиссии были названы четыре причины против мультикультурализма в квебекском обществе: а)беспокойство по поводу языка не является важным фактором в английской Канаде; б) не было найдено фактов отсутствия безопасности меньшинств; в) в Канаде больше не существует этнической группы большинства (гражданами британского происхождения являются 34 % населения Канады, тогда как гражданами франко-канадского происхождения являются 79 % населения Квебека); г) наименее всего заботятся о сохранении основ культурных традиций в английской Канаде. Интеркультурализм, признают комиссары, «стремится примирить этнокультурное многообразие с целостностью франкоязычного ядра и сохранения социальной связи».
Германия
В октябре 2010 года, на встрече с молодыми членами Христианско-демократического союза (ХДС) в Потсдаме, под Берлином, канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что попытки построить мультикультурное общество в Германии «полностью провалились». Меркель сказала: «Концепция, по которой мы в настоящее время живём бок о бок и счастливы этим фактом, не работает». Она также заявила, что иммигранты должны интегрироваться, принимать культуру Германии и её ценности. Это способствовало росту дебатов в Германии по поводу иммиграции, что отразилось на Германии и степени, по которой мусульманские иммигранты должны интегрироваться в немецкое общество.
Широкий общественный резонанс получило интервью журналу «Lettre International» 30 сентября 2009 года члена совета директоровНемецкого федерального банка и члена Социал-демократической партии Германии Тило Саррацина, который заявил, что значительная часть арабских и турецких иммигрантов совершенно не готово и даже не хочет интегрироваться в немецкое общество. Саррацин заявил: «Интеграция есть задача того, кто интегрируется. Я не обязан терпеть того, кто ничего для этого не делает. Я вообще не обязан кого-то терпеть, кто живёт на средства государства, отрицает это государство, не заботится об образовании своих детей и постоянно производит на свет маленьких „девочек-в-платках“».
Япония
Японское общество с его идеологией однородности традиционно отвергает любые попытки признать необходимость этнической дифференциации в Японии. Такие требования были отвергнуты даже в отношении таких этнических меньшинств, как айны. Бывший премьер-министр Японии Таро Асо назвал Японию нацией «одной расы» .
В 2005 году, Дуду Дьен, специальный докладчик Комиссии ООН по правам человека, в своём докладе выразил озабоченность по поводу расизма в Японии и заявил, что правительству необходимо признать глубину проблемы. За девять дней расследования Дьен пришёл к выводу, что расовая дискриминация и ксенофобия в Японии первую очередь влияет на три группы: национальные меньшинства, латиноамериканцы японского происхождения, в основном, японские бразильцы, и иностранцы из других азиатских стран. Например, по данным УВКБ ООН, в 1999 году Япония приняла только 16 беженцев для переселения, в то время как Соединенные Штаты приняли 85 010, а Новая Зеландия, в которой живёт гораздо меньше людей, чем в Японии, приняла 1140. В период с 1981 года, когда Япония ратифицировала Конвенцию ООН о статусе беженцев, по 2002 год Япония признала беженцами только 305 человек.
Югославия
До Второй Мировой Войны первые ростки напряжённости на Балканах возникали из-за многонационального состава монархической Югославии и абсолютного политического и демографического доминирования сербов. Для Югославских войн, которые имели место в период между 1991 и 2001 годами, были характерны острые этнические конфликты между народами бывшей Югославии, в основном, между сербами, с одной стороны, и хорватами, боснийцами и албанцами, с другой. Но и между боснийцами и хорватами в Боснии и македонцами и албанцами в Республике Македония также были трения.
Конфликт имеет свои корни в различных политических, экономических и культурных проблемах, а также в давней этнической и религиозной напряженности.
Норвегия
Норвежец Андерс Брейвик, признавшийся в совершении двойного теракта 22 июля 2011 года, главным объектом для своей критики избрал именно европейскую политику мультикультурализма:
В качестве цели использования [карабина, купленного Брейвиком] в заявлении я указал «охота на оленей», хотя и очень хотелось написать правду — «казнь культурных марксистов и мультикультуралистских предателей категории А и Б», просто чтобы посмотреть реакцию.
Мультикультурализм и ислам
В статье литературного журнала «Hudson Review» Брюс Бавер пишет о том, что он видит, как развивается отвращение к идее и политике мультикультурализма в Европе, особенно в Нидерландах, Дании, Великобритании, Норвегии, Швеции, Австрии, Германии и России.
Мультикультурализм в России: хорошо или плохо?
Тема мультикультурализма как возможного варианта решения этнонациональных проблем современной России все чаще звучит в выступлениях и исследованиях отечественных социологов, политологов и культурологов. Диапазон мнения о правомерности применения на практике идей мультикультурализма в нашей стране колеблется от полного, весьма эмоционально излагаемого неприятия этого «чужеродного» явления, до призывов распространить эту, либеральную по своей сути, концепцию существования полиэтничного государства, на практику межэтнических отношений в Российской Федерации.
Среди наиболее опасных последствий мультикультурализма отмечаются этническая фрагментация общества, сознательный отказ от малейших проявлений ассимиляции основной господствующей культурой (даже в среде вновь прибывших иммигрантов), и, как результат, - нарастание напряженности в межэтнических и межконфессиональных отношениях. Противники мультикультурализма подчеркивают, что он приводит к маргинализации этнических общин, т.к. сознательно формирует «фольклорный» образ представителей различных этнокультур, способствуя не «диалогу культур», а их конфликту. Абсолютизация и обособление, национальных различий особенно тревожат критиков мультикультурализма применительно к России, исторически сложившегося многонационального государства с такой многонациональной культурой, для которой западная идея, родившаяся в «иммигрантских» государствах, будет опасным шагом назад. Следуя русской поговорке, плохо быть Иваном, не помнящим своего родства, но сосредотачиваться только и исключительно на этом самом родстве тоже не стоит. Еще одним аргументом против распространения теории и практики мультикультурализма в российской многонациональной среде является констатация факта, что современное положение с межнациональными и межконфессиональными отношениями в Российской Федерации далеко не является удручающим, а значит, не требует срочной смены стратегии развития страны. Длящиеся или время от времени обостряющиеся этнонациональные конфликты при подробном и пристальном рассмотрении обнаруживают не этническую, а политическую и экономическую первопричину. С точки зрения интересов интеграции, которые никем не оспариваются, мультикультурализм не способен решать вопросы ни в многонациональной России, ни на постсоветском пространстве - такова основная мысль, высказываемая противниками этой концепции. Сторонники распространения мультикультурной модели функционирования многонационального российского общества преподносят ее как новую «культурную революцию», способную заменить в глобализирующемся современном мире вполне традиционную ксенофобию на «ксенофилию». Многокультурная идея, по мнению ее сторонников, даст России ряд преимуществ в общении с Западом, который настораживает образ славянской, православной державы, ностальгирующей по прежним имперским временам. Мультикультурализм в России предлагается использовать для формирования единого евразийского пространства, на котором воздвигнется геополитическое государство, противостоящее как «атлантизму», так и «европеизму» в мировой политике. Это государство будет базироваться на многообразии этнических сообществ. Инициативу создания этой новой модели общества должен взять на себя русский народ. Мультикультурная форма существования многонационального сообщества в нашей стране, по мнению ее сторонников, является объективной необходимостью в условиях роста потоков иммиграции в Россию. Вновь прибывшие члены общества в условиях демократического режима имеют право получить от принимающего их государства хотя бы формальное признание как их культурных ценностей, так и равенства их возможностей. Общество должно озаботиться защитой основных прав и свобод иммигрантов, таких как свобода совести, вероисповедания и др., предоставить им возможности культурной, а затем и общественно-политической репрезентации. Мультикультурная модель, опробованная в странах, традиционно принимающих иммигрантов, может указать пути решения этих непростых задач. И, наконец, по мнению сторонников мультикультурализма, осуществление его принципов во внутренней политике России будет способствовать повышению уровня толерантности в российском обществе и снижению этноконфессионального потенциала его конфликтности. Истина в отношении к политике мультикультурализма скорее всего находится посредине. Рациональное зерно, несомненно, присутствует как у противников, так и у сторонников распространения этой практики на Россию. Игнорировать мультикультурные процессы наша страна не может по причинам объективного порядка.
В первом случае распространение практики мультикультурализма рассматривается как исключительно разрушительная идея, грозящая расколом единому культурному пространству страны на мозаичные, не связанные друг с другом фрагменты, после чего не будет никакого смысла в попытках создания и привития гражданам России «великой национальной идеи». Мультикультурализм объявляется его противниками «провальной» политикой, ярко проявившей свои негативные стороны и последствия (в большей или меньшей степени) во всех странах, где он практикуется на государственном уровне - в США, Австралии, Канаде.
МЕЖЭТНИЧЕСКИЕ СОЦИАЛЬНОКУЛЬТУРНЫЕ ОТНОШЕНИЯ И ПРОЦЕССЫ В СОВРЕМЕННОМ толерантном МУЛЬТИКУЛЬТУРНОМ ОБЩЕСТВЕ
В современном мире, характеризующемся мобильностью больших групп населения и изменениями социальной структуры, нередко настороженность в отношении представителей меньшинств или иммигрантов перерастает в нетерпимость, которая проявляется не только на бытовом уровне, но и на уровне
общественных институтов, в установках и практической деятельности государственных структур, в СМИ. Данная проблема является весьма актуальной, в частности, и для Саратовской обл., где проживает более 20 крупных (более 2000 чел.) этнических групп, в т.ч. относящихся к различным конфессиям.
Саратовская обл. не считается проблемной зоной в плане этнической напряженности, но вопросы миграционной политики, взаимоотношений власти и коренных жителей с мигрантами, гастарбайтерами, проблемы межкультурной коммуникации в студенческой среде, в частности, связанные с адаптацией студентов из таких регионов России, как Чечня и Дагестан, ближнего и дальнего зарубежья, остро встают на повестке дня. Одним из способов либерально-демократического противодействия опасной тенденции этнической нетерпимости в 1990-е гг. стали идеи и практики мультикультурализма, основанные на принципе толерантности – уважении, принятии и правильном понимании богатого многообразия культур нашего мира, форм самовыражения и способов проявлений человеческой индивидуальности. Декларация принципов толерантности была подписана 16 ноября 1995 г. в Париже государствами – членами ЮНЕСКО (185 стран), включая и Россию. Понимание толерантности, ставшей символом
мультикультурализма, подразумевало терпимое отношение к иным
национальностям, расам, цвету кожи, полу, сексуальной ориентации, возрасту, инвалидности, языку, религии, политическим или иным мнениям, национальному или социальному происхождению, собственности. Интересно отметить, что на русском языке эта декларация именуется Декларацией принципов терпимости.
Но понятие «терпимость» не только не отражает полноту понятия
«толерантность», но и может быть прямо противоположно ему.
Русский глагол «терпеть» имеет негативную коннотацию: терпение означает внешнее сдерживание своего отношения (я мучаюсь, но терплю), не меняющее самой сути нетерпимости. Напротив, толерантность толкуется в Декларации как
активное отношение, формируемое на основе признания универсальных прав и
основных свобод человека. Изменение идеологических приоритетов европейской государственной политики в конце хх в. и расширение возможностей жизненного выбора людей по-новому формировали повестку дня в сфере культурной индустрии и духовной составляющей повседневной жизни людей. Был предложен ряд моделей мультикультурализма. Так, Ч. Кукатас выделяет две модели мультикультурализма – «жесткую» и «мягкую». «Мягкая» модель отличается тем, что степень ассимиляции определяется желанием и способностью
каждого отдельного индивида разделять или не разделять образ жизни большинства, при этом принимающая сторона спокойно относится к тому, что меньшинства остаются не интегрированными.
«Жесткий» мультикультуралистский подход заключается в том, что общество должно принимать активные меры для обеспечения меньшинствам не только полноценного участия в жизни общества, но и максимальных возможностей для
сохранения особой идентичности и традиций. К разнообразию следует не просто относиться толерантно – его нужно укреплять, поощрять и поддерживать как финансовыми средствами (при необходимости), так и путем предоставления культурным меньшинствам особых прав. О. Арбша выделяет эгалитарную и доминантную модели мультикультурализма. Эгалитарная модель рассматривается им на примере стран Евросоюза, Канады и ряда других государств, причем наряду с положительными эффектами констатируется ее дезинтегрирующий потенциал. Доминантная модель, легитимирующая неизбежность и полезность неравенства
и дискриминации, обсуждается вне конкретной политической и социокультурной практики. Как нам представляется, эта модель близка к ортодоксальной альтернативе мультикультурализма и толерантности – концепции метакультуры, или метакультурного диалога, под которым подразумевается выстраивание отношений с позиции главенства одной культуры над другой. Вместе с тем на фоне процессов автономизации территорий и фрагментации национальных государств роль мультикультурализма как интегрирующей политики и практики, способной препятствовать процессам разобщения и форсировать развитие в странах с переходной экономикой, с начала 90-х гг. стала подвергаться сомнению. В 2010–2011 гг. друг за другом лидеры трех ведущих европейских государств – А. Меркель, Д. Камерон и Н. Саркози – заявили о крахе политики
мультикультурализма. Но, как справедливо указывает один из ведущих специалистов в области мультикультурализма А. Малахов, трактовка термина вызывает массу недоразумений. Термин неоднозначен и используется, как минимум, в двух значениях. «Вещь первая – это факт культурного многообразия, будь то этническое, конфессиональное, жизненно-стилевое разнообразие, и будь оно обусловлено исторической разнородностью общества или миграцией; и вещь вторая – это способ обращения с этим фактом, с этой реальностью». Никто не ставит под сомнение наличие культурного многообразия как реалии современной жизни. Что касается второго момента, то В. Малахов утверждает: «У нас в России есть характерное представление, что эта политика была мотивирована неким чрезмерным гуманизмом или либеральным благодушием». В своей публичной лекции, прочитанной 22 декабря 2011 г. в клубе ПирОГИ на Сретенке (ZaVtra) в рамках проекта «Публичные лекции Полит.ру», В. Малахов убедительно доказывает, что политика и практики мультикультурализма были мотивированы вполне рационально-бюрократически, и разъясняет, почему в начале нулевых годов Европа сделала поворот к ассимиляционизму. События всем хорошо известны: теракты, рост влияния ультраправых сил, нежелание ортодоксального мусульманского населения принимать культурные традиции принимающей стороны и т.д. и т.п. Поворот часто называют интеграцией, хотя, как отмечает В. Малахов, цитируя Зигмунда Баумана, интеграция – это
политкорректное имя для ассимиляции.
Общеизвестно, что этнокультурный облик России отличается большим разнообразием, которое обусловлено обширной территорией, природно-климатическим разнообразием, особенностями истории государства и его политики в отношении многокультурного населения. Мы присоединяемся к мнению Л. Дробижевой о том, что, в отличие от Канады, США и ряда европейских стран, наше государство исторически сложилось как полиэтническое и этническое «небольшинство» нашей страны – это, прежде всего, народы, живущие преимущественно на своей территории. Для такого государства, как Россия, проблема интеграции формулируется значительно шире, чем вопрос включения в сообщество мигрантов. Принимающим обществам в рамках интеграционного процесса следует решать в т.ч. такие вопросы: «должна ли новая идентичность мигрантов совпадать с общегосударственной идентичностью принимающего
общества, каковы пределы допустимых совмещений и расхождений гражданской, локальной, этнической идентичностей и каково должно быть отношение общества к тем, кто сохраняет элементы своей старой идентичности». В связи с этим важно учитывать эволюцию политики России как полиэтнического государства. В СССР «национальный вопрос» был отличительным признаком советской политики. Идеология находила свое выражение в культурных практиках, отражаясь и распространяясь через СМИ и массовые жанры искусства. Вопросы национальной политики были неотъемлемой частью идеологии советского периода. Как указывает В. Тишков, «в СССР “многонациональность” и “дружба народов” были своего рода визитными карточками страны, а в реальной политике советского времени “национальная форма социалистической культуры” была в частичном смысле той же самой политикой мультикультурализма… этническое разнообразие признавалось и поощрялось, причем не только в сугубо культурных областях (искусство, литература, наука, образование), но и в социально-экономической и политической сферах». В принципе национальная идентичность может выступать в роли общегражданского самосознания, однако, как указывает З. Сикевич, «ценность этнического происхождения в сознании многих народов России все еще заметно превышает значимость общегражданской идентичности».
О. Волкогонова и И. Татаренко называют три причины повышения роли этничности и идентификации современного россиянина: во-первых, затянувшийся переход к другому типу социальной организации (реакцией на который является обращение к традиционности и устойчивости), во-вторых, сепаратистские процессы в Российской Федерации в 90-е гг. (когда многие агрессивные националистические движения винят за ошибки в национальной политике не власть, а русских, делая из них «оккупантов», «нахлебников») и, в-третьих, направленное идеологическое воздействие. Процессы социальной дифференциации протекали на постсоветском пространстве особенно болезненно, учитывая идеологию равенства, доминирующую в обществе на протяжении многих поколений. Способы и формы социальной идентификации в таких условиях все в большей степени включают в себя этнический компонент. Особое значение для этих процессов имеет миграция. Распад СССР, сопровождавшийся экономическим и социальным кризисом, суверенизация новых
государств по модели государств-наций, борьба новых элит за власть, войны за спорные территории вызвали кризисные явления и в миграциях. Между тем, и политики, и политологи, и социологи вот уже почти два десятилетия говорят о сложностях получения российского гражданства, о недостатках в системе правового обеспечения миграции, о трудностях получения вида на жительство. Однако, как отмечает директор Центра изучения элит Института социологии РАН Ольга Крыштановская, выбор между империей и демократией в настоящее время «усложняется тем, что демократия либерального типа испытывает кризис. Поэтому выбор очень сложен. Но он в любом случае должен быть мультикультуральным. Наша страна состоит из многих наций, и это непреложный факт и условие». Эти обстоятельства, на наш взгляд, требуют специальных усилий по измене- нию ситуации со стороны законодателей, руководства страны и регионов, руководства органов внутренних дел, а в целом – всего общества. В частности, необходимо изменение ценностно-мотивационных принципов регулирования установок сотрудников силовых структур на процессы урегулирования противоречий и конфликтов, внесение коррективов в их
профессиональную подготовку. Говоря о «социокультурном профессионализме», мы имеем в виду формирование компетенции в вопросах поликультурализма, толерантности и недискриминации. На практике модернизация профессиональной подготовки кадрового состава полиции происходит под влиянием преимущественно кризисных ситуаций. В 2005–2006 гг. нами было проведено социологическое исследование – опрос сотрудников органов внутренних дел крупных промышленных центров в России: Саратовской (54,2%), Самарской (25,4%) обл. и ряда других регионов, среди которых Республика Мордовия, г. Пермь, Томская, Тюменская, Кемеровская обл., г. Йошкар-Ола, г. Сургут, Иркутская обл.,
г. Киров, Алтайский край. Результаты исследования сопоставлялись с данными социологических исследований межэтнических отношений в современной России, проведенных и опубликованных в сети
Интернет фондом «Общественное мнение» (ФОМ). Для оценки установок по отношению к мигрантам как одного из видов эксклюзии в исследовании использованы несколько подходов: 1) на основе оценки роли мигрантов в контексте социальной безопасности на территории России (вопросы субъективной оценки криминальных аспектов жизнедеятельности мигрантов); 2) на основе оценки роли мигрантов в формировании рынка труда; 3) на основе оценки общего характера взаимоотношений с представителями мигрантов, принадлежащих к иным этническим группам. Респондентами в социологическом опросе, проведенном автором, были следователи, сотрудники оперативных подразделений, сотрудники следственных изоляторов, вневедомственной охраны,
паспортной службы, ГИБДД (N = 343). Как показали проведенные исследования, сотрудники милиции по своим служебным обязанностям чаще остальных россиян сталкивались с проявлениями межэтнических конфликтов. Это же обстоятельство порой мешало объективно воспринимать причины и внутренние механизмы динамики ситуации. Сравнительный анализ общественного мнения россиян и сотрудников органов внутренних дел указывает на более рельефное восприятие работниками милиции проблем межэтнического взаимодействия. О большом количестве приезжих, мигрантов за последние годы говорят 92% респондентов целевой выборки и 79% респондентов общероссийского опроса; ассимиляция представляется наиболее приемлемым вариантом поведения мигрантов для 62% опрошенных сотрудников МВД и 47% – по общероссийской выборке. В качестве основных причин конфликтов на почве национальной неприязни респонденты целевой выборки указывают на приезжих, мигрантов, тогда как согласных с таким мнением в общероссийском опросе в двое меньше. На негативное влияние мигрантов на общую ситуацию в месте проживания указывают 70% сотрудников органов внутренних дел и 43% респондентов общероссийского опроса. Многонациональный состав населения России считают позитивным фактором 60% и 40% соответственно; отдельные национальные группы, проживающие в регионе, вызывают ощущение раздражения и неприязни у 30 и 40% респондентов соответственно. В апреле 2011 г. нами были проведена фокус-группа с целью проанализировать мнение иноэтничных студентов, обучающихся в юридических вузах г. Саратова, о состоянии мультикультурных практик. Целевая выборка (N=15) включала студентов различных этничностей (татары, чеченцы, осетины, казахи, аварцы). Данные фокус-группы были сопоставлены с результатами опросов студенческой молодежи, проведенных в других городах России по близкой тематике. Признавая очевидность и сложность проблемы дискриминации людей по признаку этничности, студенты – будущие юристы констатировали, что этническая дискриминация менее всего проявляется в студенческой среде, но фиксировали существование данной проблемы на институциональном уровне, например, при столкновении с администрацией, ФМС (студенты ближнего зарубежья), сотрудниками полиции. Социальная идентификация иноэтничных студентов нередко включает такой компонент, как представление себя в качестве несправедливо угнетенного. Подведем итоги. Мультикультурализм как политическая доктрина, представлявшая зримый успех левых политиков, выступает ареной жестких политических и академических баталий. Концепция мультикультурализма рисует несколько идеализированную картину современного государства, где люди различных культур и этничностей живут в равенстве и взаимопонимании. На практике мультикультурализм направлен либо на релятивизм, либо на конформность, которые либо проявляются в наивных лозунгах, либо заложены глубоко, в скрытой повестке дня. В условиях современного демократического государства мы наблюдаем кризис традиционных представлений о правах человека: попытки применения универсалистских норм в мультиэтнических сообществах приводят к неожиданным конфликтам. Однако в широком смысле мультикультурализм может быть определен как система социальных, культурных и правовых ценностей, принципов недискриминационной политики и практик толерантного взаимодействия групп и индивидов, формирования духовной жизни общества. В этом случае можно говорить о базовых принципах мультикультурной интеграции, таких как постепенность, создание экономических и социальных условий поддержки; трансформация институтов принимающей культуры; действенность законодательных актов против расизма, ксенофобии и терроризма; равный доступ к образовательным услугам и обеспечение недискриминационных практик; формирование эффективного коммуникативного пространства; свобода выбора стиля жизни, языка обучения и общения, принадлежности к конфессии при безусловном соблюдении законодательства государства проживания; систематический мониторинг результативности программ межкультурного взаимопонимания и преодоления неравенства.






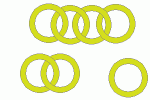







 (zip - application/zip)
(zip - application/zip)










