Министерство образования и науки Российской Федерации ФГБОУ ВПО « Чувашский государственный педагогический университет имени И. Я. Яковлева»
Кафедра возрастной и специальной психологии
Реферат
на тему: Бродяжничество как форма девиантного поведения
Выполнила: студентка 5 курса, группы «В»
ФДиКПиП Яковлева Раиса Николаевна
Проверил: преподаватель
Велиева С.В.
Чебоксары 2012
Бродяжничество как форма девиантного поведения
Содержание
Характеристика бродяжничества
Исторические аспекты бродяжничества
Исследования бродяжничества молодежи
Коррекционная работа
Список литературы
Характеристика бродяжничества
Бродяжничество представляет собой скитание лица, не имеющего постоянного места жительства, из одного населённого пункта в другой либо в пределах одного города или района при условии проживания на нетрудовые доходы и уклонении от общественно полезного труда. Его характерными чертами являются отсутствие определённого места жительства, а также существование на нетрудовые доходы. Бродяжничество можно рассматривать как вид девиантного поведения, поскольку общество заинтересовано в том, чтобы каждый человек выполнял общественно полезные функции, а не склонялся к социальному паразитизму.
К нетрудовым доходам, на которые существуют бродяги, можно отне-
сти попрошайничество, т. е. систематическое выпрашивание у посторонних
лиц (под различными предлогами или без них) денег, продуктов питания,
одежды и других материальных ценностей, а также гадание, азартные игры,
нелегальную торговлю, в том числе наркотиками, хищения и другие доходы
криминального характера. Что касается отсутствия определённого места жи-
тельства, то оно характерно не только для бродяг, но и для некоторых других
людей, например вынужденных мигрантов. Иными словами, бродяжничество
не тождественно бездомности.
Под бездомностью имеется в виду отсутствие постоянного жилища у
индивидов или семей, что делает невозможным как ведение оседлого образа
жизни, так и полноценное социальное функционирование. Причиной массо-
вого распространения бездомности могут быть социальные потрясения, сти-
хийные бедствия, войны и т. п. В настоящее время бездомность наблюдается
в индустриально развитых, развивающихся странах, а также странах с пере-
ходной экономикой.
Проблему бездомности в отсутствие катастрофических обстоятельств
определяют следующие причины: общий дефицит жилищ, нехватка дешёвого
жилья, безработица, обусловливающая отсутствие средств для оплаты даже
имеющегося жилья; малообеспеченность многих семей и отдельных граждан,
делающая для них недоступным приобретение жилья, социальное здоровье
общества (наличие душевнобольных, лиц с отклоняющимся поведением,
наркоманов, алкоголиков, нездоровые отношения в семье, положение лиц,
вернувшихся из мест лишения свободы), особенности социальной политики
общества, финансово-экономический потенциал государства, имеющего или
не имеющего возможности реализации социальных программ, нацеленных на
оказание материальной и другой помощи малообеспеченным семьям, груп-
пам риска и т. д.
Значительную долю бездомных представляют так называемые лица
бомж, т. е. лица без определённого места жительства. В последние годы их
число в России резко увеличивается. Основные места их пребывания – вокза-
лы больших городов, чердачные и подвальные помещения. Оказавшись без
крыши в силу вынужденных обстоятельств или личных склонностей, при-
страстий, бомжи представляют собой реальную и потенциальную угрозу об-
ществу, окружающим. При этом надо иметь в виду, что и само общество не-
редко толкает бомжей к преступлению. Невозможность получить жильё, уст-
роиться на работу (случайные заработки и попрошайничество – не выход из
положения) побуждает их к этому. Большинство бездомных – мужчины-
одиночки. Бездомные женщины составляют около 10%. Это алкоголички,
женщины, вернувшиеся из мест лишения свободы (последняя группа состав-
ляет около 1/5 всей численности бездомных женщин).
Особенно тягостным является положение бездомных детей. В такое
положение попадают, как правило, дети из неблагополучных семей: при на-
личии родителей-алкоголиков, душевнобольных, при утрате по разным при-
чинам родительского попечения. Нередко дети бегут из дома из-за жестокого
обращения с ними в семье. Из 40 млн. детей (до 18 лет) в РФ бездомные со-
ставляют немногим более 1%, но их число растёт.
Бродяжничество сопряжено обычно с такой социальной проблемой, как
нищенство. Нищенство представляет собой состояние, при котором ведение
нормального образа жизни становится невозможным или затруднительным
из-за отсутствия материальных и денежных средств, собственности, навыков
трудовой деятельности, а социальное функционирование обеспечивается в
определённой мере сбором подаяний.
«Дети улицы» еще недостаточно изучены, но результаты некоторых исследований, указывают на следующие причины побегов подростков из дома: 86% у юношей - это эмансипационные побеги, около 30% у девушек - демонстративные побеги; анализ показывает, что многие подростки потеряли семейные и родственные связи, а также связи со школой. Как показывают некоторые исследования, повторяющиеся побеги из дома и бродяжничество, преимущественно бывают в период от 7 до 16 лет в основном у мальчиков. Чаще в период от 7 до 13 лет. Начиная с 14 - 15 лет, уходы и бродяжничество проявляются реже, а затем постепенно прекращаются. Это своеобразная форма выражения протеста или обиды на учителей, родителей. Иногда подобные побеги обусловлены страхом перед возможным физическим наказанием за совершенный неблаговидный поступок или за плохую отметку. Значительно реже уходы из дома и бродяжничество возникают без очевидных мотивов. В основе их может лежать внезапно изменившееся настроение, отрицательно влияющее на критическую оценку подростком ситуации. Как правило, такие дети не могут объяснить, почему сбежали из дома, почему поехали в тот или иной город (чаще всего потому, что легче оказалось проникнуть в стоящий у платформы поезд). Возникающее несколько позже раскаяние в совершенном поступке подавляется страхом наказания со стороны родителей.
Продолжая подражать взрослым, ребенок с одинаковым упоением воспроизводит как «хорошие», так и «плохие» социальные образцы. Разделить их, провести ценностный анализ, понять, что такое зло и добро, человек не может даже в раннем подростковом возрасте, потому что у нет правильного понимания природы общественных ценностей. Стало быть, подражание «плохим взрослым» для него не является злом как таковым, поскольку и понимания сущности злого (а не интуитивного его ощущения, которое существует, как догадка, у любого ребенка) у него нет. Вот почему бродяжничество, увлечение блатной субкультурой, курением, спиртными напитками, воровством и матерщиной для подростка в 9-13 лет рассматривается как совершенно нормальное явление, которое нельзя судить с позиций доброго-злого. Есть целые этапы жизни, когда ребенок руководствуется в основном усвоенным, но не переработанным опытом, то есть живет чужим умом. В другие периоды жизни идет активный процесс переработки и осмысления усвоенного материала, но применить его на практике подростки еще не умеют.
Произвольный контроль за собственными действиями у маленького человечка очень нестабилен, поэтому при отсутствии постоянного внешнего надзора со стороны авторитетного социализатора он не в состоянии самостоятельно удерживаться в рамках «правильного» поведения. Дети из неблагополучных семей лишены такого надзора, они-то и пополняют главным образом криминальную статистику.
Исторические аспекты бродяжничества
В качестве более отдаленного исторического персонажа можно припомнить еще и знаменитого Диогена. "Разбогатеть философу легко, но неинтересно"", - говорили греческие мудрецы и очень часто с нескрываемым презрением относились к житейскому благополучию. В Греции было много Диогенов, но самым известным из них считался тот, что проживал в городе Синопе, поселившись в глиняной бочке. Скарб у него был невелик - в суме лежали миска, кружка, ложка. Увидев как мальчик-пастушок наклонился к ручейку и пьёт из ладошки, Диоген выбросил кружку. Его сумка стала легче и вскоре, заметив изобретение другого мальчика - тот наливал чечевичную похлёбку прямо в ладошку - Диоген выбросил и миску. Он не сразу дошёл до такой жизни. Вначале Диоген встретился с оракулом и предсказатель ему посоветовал: ""Сделай переоценку ценностей!"" Диоген понял его буквально и начал перечеканивать монеты. Занятый столь неблаговидным делом, он увидел пробегающую по полу мышь. И подумал Диоген - вот мышка, она не заботится о том, что пить, что есть, во что одеться, где прилечь. Глядя на мышку, Диоген понял смысл бытия, завёл себе посох и суму и стал ходить по городам и весям Греции.
В 1960-80-е годы с беспризорностью и преступностью боролись весьма своеобразно. Беспризорность с улиц крупных городов России пытались упрятать в деревню и в специальные «закрытые поселения" (печально известный 101-й километр). В последние 10 лет в России произошло снижение реального уровня социально-правовой и экономически обеспеченной защиты детства и как следствие - рост беспризорности. Прекращение уголовных преследований за бродяжничество и попрошайничество в эпоху перестройки, миграционные процессы, а также изменения на рынке труда (сокращение возможностей сезонных и временных работ в сельской местности, на Севере и Дальнем Востоке) сделали наши города, особенно крупные, главным центром сосредоточения бомжей и бродяг.
В 1990-е годы, когда Россию охватил глубокий социально-экономический кризис, начался новый подъем беспризорности. Резкое увеличение стрессовых ситуаций в первую очередь сказалось на детях. Ежедневно в Российской Федерации регистрировались 1 534 развода и в результате без одного родителя оставались 1 288 детей, в дома ребенка переданы 30, "отбираются" у нерадивых родителей - 32, убегают из дома - 237. Ухудшается психологический климат и в устойчивых семьях. Главная причина - отсутствие средств к нормальному существованию, угроза безработицы, неполноценное питание, рост цен на продукты питания, товары, услуги. По данным МВД РФ, ежегодно убегают из дома по причине плохого обращения с ними родителей более 90 тысяч юных россиян. Около тысячи детей в месяц исчезают бесследно. Все чаще детишек оставляют в роддоме молодые женщины в возрасте от 14 до 17 лет. В 1995 г. таких случаев зарегистрировано 55 тыс. Госкомстат констатирует: каждый пятый российский ребенок - детдомовец. Почти все они имеют родителей. В Санкт-Петербурге и в Москве стаж бездомности свыше года - у 44% бездомных.
Беспризорность рассматривается как тяжелое общественное бедствие, свидетельствующее о глубоком кризисе, переживаемом тем или иным обществом, в частности Россией. Тому есть основания. Согласно статистическим данным, в 2000 г. в России насчитывалось около 2,8 млн. детей-бомжей. Огромное количество детей, живущих в неблагополучных семьях, приютах, интернатных учреждениях, безнадзорных и беспризорных, употребляющих алкоголь и наркотики, - реальная основа для роста преступности, проституции, питательная среда для деятельности сомнительных экстремистских организаций.
Исследования бродяжничества молодежи
Изучением социальных аспектов беспризорности занимались Д. Дриль, А. Зак, М. Гернет, С. Позднышев и др. В первой четверти ХХ века российские педагоги и психологи связывали причины беспризорности связаны с врождённой дефективностью и психологическими отклонениями подростков. Беспризорных причисляли к дефективным детям и антисоциальным элементам. В начале 1930-х годов было признано, что беспризорные дети - это в большинстве нормальные подростки, в силу социально-экономических обстоятельств вынужденные самостоятельно бороться за своё существование. Изучению образа жизни, социальной организации бездомных в городских условиях было посвящено (1993-1995) исследование С.А.Стивенсон (ВЦИОМ), основанное на методе углубленных биографических интервью (N = 95), анализе дел в московском спецприемнике-распределителе № 2 для лиц без определенного места жительства, статистическом анализе данных картотеки международной благотворительной организации "Врачи без границ" (MSF) за май - июнь 1995 г. (948 карточек). Жизнь "на улице" может привести к необратимым последствиям.
Выяснилось, что в беспризорники многие дети, не получающие дома родительской любви, убегают именно за реализацией своих мечтаний - о теплых странах, дешевом хлебе, добрых людях и т.д., в поисках своего детского Белозерья. Уход из дома может быть вызван импульсивно возникающим неодолимым влечением. При этом подростки рассказывают, что желание уехать приходит неожиданно, без всяких раздумий, по типу "готового решения". Дети, склонные к таким поступкам, отличаются избирательной общительностью, они большей частью хмуры и недовольны окружающими, склонны к агрессивным реакциям. Побеги осуществляются в одиночку, без всякой подготовки и раздумий о возможных трудностях и лишениях. Подростки ночуют на вокзалах, чердаках и т.п., питаются впроголодь, попрошайничая или воруя. Стремление к бродяжничеству, как правило, возникает периодически и может быть связано с сезонными факторами (весенне-летние, летне-осенние циклы); нередко подросток попадает в асоциальную или криминальную компанию и начинает употреблять алкоголь или наркотики.
Практически все опрошенные бездомные ощущают социальную неполноценность и изгойство. Через 2-3 года статус бездомного бывает полностью усвоен, человек ощущает себя изгоем независимо от поведения окружающих. Бродяжничающие в течение долгого времени люди замыкаются в своей среде, не стремятся вступать в длительные отношения с представителями иных групп. Но чем больше они замыкаются и перестают общаться с окружающими, тем меньше у них шансов выбраться из социального дна. Возникает эффект глубокого погружения в бездомность, своего рода засасывание в социальную трясину. Нередко хронические бездомные отказываются от предоставляемого крова, проживания в общежитии, в ночлежке, помещения в больницу или приют. И, конечно, здесь, как и в преступности развит рецидив: статистика свидетельствует о массовых побегах 13-14-летних беспризорников из специальных учреждений, куда их доставляет милиций. Подростков устраивает вокзальная жизнь, попрошайничество, и они уже этого не стесняются.
Коррекционная работа
Психотерапевтические и психокоррекционные воздействия направляются обычно на ликвидацию психологических предпосылок аномального поведения и имеют целью достижение социально-психологической адаптации ребенка.
Под социально-психологической адаптацией понимается такое направленное изменение (самоизменение) взаимодействия личности со средой, которое характеризуется:
— во-первых, осознанием необходимости постоянных эволюционных изменений в отношениях со средой через овладение новыми способами поведения;
—во-вторых, приспособлением, которое рассматривается и как процесс и как результат деятельности личности подростка по отношению к меняющимся условиям среды. Новые приспособительные механизмы «гармонизируют» отношения со средой.
В современных исследованиях защитных психических механизмов «бегство» (физиологический уход от раздражителя) квалифицируется как первичная (допсихическая) защитная реакция организма.
Все виды защитных реакций применяются ребенком для того, чтобы добиться приемлемого к себе отношения со стороны окружающих, и формируются в результате усвоения образцов, демонстрируемых родителями. Считается, что более зрелые формы психологической защиты надстраиваются над двигательными (поведенческими) реакциями при участии элементарных психических функций.
Наиболее примитивным защитным механизмом считается отрицание в форме избегания, заключающееся в попытках избавиться от страха путем удаления от источника стресса. Отрицание, как ведущий механизм защиты, способствует развитию внушаемости и самовнушаемости. Самокритика при этом отсутствует.
На основе механизма отрицания формируется самая ранняя форма защитного поведения — отказ, являющийся реакцией на невозможность удовлетворения базисных потребностей в безопасности и защищенности. Отказ — элемент глобальной поведенческой стратегии отдаления, сущность которой составляют подсознательные защитные автоматизмы изоляции и отрицания.
В раннем возрасте — это отказ от общения даже с близкими людьми (аутизм), отказ от игр, пищи; в более старшем возрасте, при сохранении действия стресса, отказ может выражаться в уходе из дома; крайней формой отказа является суицид.
В некоторых случаях уход из дома может стать привычной реакцией, а при соответствующем подкреплении в семейных сценариях может применяться даже по незначительному поводу.
Проблема соотношения личности и ситуации важна для понимания стресса. В настоящее время считается, что стресс — это специфическая реакция человека на значимый для него раздражитель. События влияют на личность, но как их воспринимать, считать их важными или нет - решает личность.
При анализе событийного ряда, следствием которого является побег, следует выделить три группы факторов.
Во-первых, это острый или хронический стресс, с которым подросток не справился. Реакция на стресс зависит от его силы, длительности действия, а также от «индивидуального барьера психической адаптации» (Ю. Александровский, 1997). Такой барьер формируется в процессе развития личности и зависит от особенностей нервно-психической деятельности, сочетания врожденных и приобретенных свойств. То есть этот барьер есть совокупность усвоенных человеком защитных стратегий, реакций и механизмов в сочетании с особенностями нервной системы.
Во-вторых, это факторы, связанные с имеющимся жизненным планом, возможно фантастическим. К этой группе факторов относятся, например, «фантазии семейного романа», описанные еще 3. Фрейдом, и планы, основанные на сценариях фильмов и игр.
В-третьих, это факторы, связанные с развитием заболевания (например, эпилепсии), когда побег имеет диагностическое значение.
Как правило, в основе каждого конкретного случая лежит то или иное сочетание факторов и, конечно, конкретная жизненная ситуация, которая активирует патопсихологические предпосылки побега.
Понятие «индивидуальный барьер психической адаптации» характеризует уровень стресса, на который возможна сознательная реакция адекватными защитными реакциями. Современные теории сознания, как правило, связаны с разделением представлений о содержании сознания (то есть осмысленного восприятия внешнего и внутреннего мира в результате высших интегративных процессов) и уровне его активации, обеспечиваемой восходящей активирующей ретикулярной системой (ВАРС).
В норме ВАРС обеспечивает чередование ритмов сна и бодрствования. В последние годы накоплен клинический материал, позволяющий говорить о связи содержания сознания с тем или иным типом активности полушарий мозга: правополушарном, право-левополушарном, лево-правополушарном и левополушарном.
Правополушарное доминирование связывается с повышенной эмоциональностью, в эмоциональном спектре преобладают «отрицательные» эмоции: беспокойство, тревожность, страх. Эти эмоции связаны с активированием инстинктивных паттернов поведения, обусловленных реакцией на стресс (бегство или агрессия). У людей с врожденным преобладанием правополушарной активности информация перерабатывается относительно медленно, целое воспринимается в когнитивном плане через синтез представлений о его отдельных частях, эта переработка происходит на фоне уже сложившейся спонтанной эмоционально-эстетической оценки целого.
Правополушарная активность тесно связана с биологическими ритмами, в том числе ритмом сна и бодрствования, поэтому при доминировании правополушарной активности возрастает внушаемость, гипнабельность. Обладая высокой эмотивностью, эта категория людей более чувствительна к первой сигнальной системе (внешний вид, интонации голоса, манеры, поза, интерьер, запах и т.п.), что имеет важное значение при психотерапии и психокоррекции.
Левополушарная активность в большей степени связана с логическим анализом информации, рефлексией и функцией контроля над поведением. Этой же активностью обусловлены механизмы, связанные с получением положительных эмоций небиологического характера — удовлетворение и радость от достижения поставленных целей.
Выявлено, что механизмы контроля над поведением (центральное торможение) в онтогенезе формируются относительно поздно. У подростков эти механизмы, как правило, еще не развиты в полной мере. В норме вектор межполушарной активности изменяется в некотором диапазоне в зависимости от рода деятельности человека и его психического состояния, уровня активации ВАРС.
В случае возникновения стресса первая реакция носит сигнальный, эмоциональный характер, запускаются физиологические механизмы подготовки к акту агрессии или бегству. Сигнал резко активирует мыслительную деятельность, связанную с анализом сложившейся ситуации. Если приемлемый выход не обнаружен (или он связан с внутренним конфликтом), включаются рефлекторные защитные механизмы «запредельного» торможения, при этом внимание становится избирательным, руководство поведением передается центрам инстинктивных его форм. В наиболее тяжелых случаях возможен отказ от каких-либо действий, ступор.
Во всех случаях теряется жизнерадостность, появляется нарастающее чувство утомления, морального дискомфорта, нежелание что-либо делать, через некоторое время может возникнуть желание переложить ответственность за принятие решения на других. Торможение левополу-шарной активности по принципу реципрокности способствует дополнительной активации правого полушария, которое теперь уже бесконтрольно генерирует беспокойство, страхи, тревогу. Наблюдается расстройство ритмов сна и бодрствования, активируются не только подсознательные, но и бессознательные процессы: в поведении появляются наивно-религиозные, магические мотивы.
Новый импульс тревоги и страхов вновь активирует левополушарную активность, при этом, если не появилась новая информация или значимое лицо, на которое можно возложить ответственность за решение проблемы, функции сознания искажаются. Мысли начинают течь навязчиво и бесконтрольно, для того чтобы сохранить их след, требуется все больше усилий. В это время формируются навязчивые мысли, страхи (фобии), ритуалы (как защитные действия).
На этом этапе к трансформированному страху реальности добавляется вторичный страх, связанный с осознанием более широкого контекста происшедшего, чувство вины перед собой, близкими, школьными друзьями. Так происходит форирование невротических реакций, а вопрос о приемлемом объяснении происшедшего может быть «закрыт» любым объяснением, даже фантастическим, но обязательно снимающим стресс «здесь-и-теперь».
Исследования Н.П. Бехтеревой, Ю.А. Александровского и других авторов в 1976—1988 годах показали, что под воздействием стресса происходят изменения не только в функциональных и физиологических системах, но и в морфологиии мозговых структур. Так, происходит дезинтеграция и деструкция мембранного шипикового аппарата, уменьшается число рибосом, нарушается метаболизм кортикальных синаптосом, наблюдается деградация отдельных клеток гиппокампа (такие изменения фиксируются на шестой неделе экспериментального стресса).
В периферических системах нарушение или выпадение функции какого-либо элемента включает усиленное новообразование клеточных элементов. При нарушении функции отдельных элементов мозга приспособление происходит не путем восполнения пораженных структурных звеньев из резервов мозга, а за счет формирования нового гомеостаза на основе морфологически измененных клеток. Это новое состояние устойчиво, и в дальнейшем многие системы организма оказываются вовлеченными в процесс фиксации и поддержания этого патологического компенсаторного гомеостаза.
Исследования взаимосвязи стресса и сердечно-сосудистых заболеваний показали, что люди, пережившие стресс, лучше адаптированы к новым стрессам. Параллельно было установлено, что наиболее подвержены риску люди, в жизни которых все чересчур спокойно. Подобные результаты объясняются тем, что люди, пережившие стресс, имеют тенденцию преуменьшать значение тех или иных событий в своей жизни, что может привести к недооценке реальных угроз и последствий неадекватного реагирования. Отсюда прямо вытекает важность быстрых и адекватных действий по психокоррекции аномального поведения. Психокоррекционный подход заключается в создании условий для осознания подростком неэффективности некоторых форм своего защитного поведения и осознания стратегий совладания с внутренним напряжением.
Побег из дома, какими бы причинами он ни объяснялся, — это не только регрессия к ранним, примитивным формам защитного поведения: прежде всего — это глобальная катастрофа в масштабах личности подростка.
Некоторые психологи отмечают, что психика человека способна успешно преодолевать и внешние катастрофы, и большие личные трагедии. Исследования Бельгийского центра кризисной психологии показали, что более 80% людей самотоятельно преодолевают последствия кризисов, опираясь только на внутренние ресурсы, не прибегая к помощи профессиональных психологов, психотерапевтов, врачей. Аналогичные данные приводит в своих работах А.Н. Дорожевец, работавший с людьми, пережившими последствия чернобыльской катастрофы в Республике Беларусь.
Во многих исследованиях подчеркивается, что оказание своевременной и адекватной психологической и психотерапевтической помощи позволяет снизить долю дезадаптированных лиц с 20% до 3—5%.
Сразу после кризиса доминируют эмоциональные расстройства. Многочисленные научные данные доказывают, что непосредственно в момент побега и после него у подростка наблюдается эмоциональный шок. Реакции при этом могут быть разными: от истерики до полной диссоциации с происшедшим, когда событие переживается как не имеющее отношения к подростку. Диссоциация в этих случаях играет полезную адаптивную роль (эффект шоковой анестезии). Однако неадекватность восприятия ситуации должна быть выявлена и учтена во всех случаях.
Чем сильнее эмоциональная реакция, тем более упрощается картина мира, тем меньше факторов принимается во внимание при анализе ситуации. Суженное сознание активирует простейшие механизмы психической защиты, например механизм отрицания, активируются фантазии, способствующие вытеснению: в сознание не допускается истинный, но неприемлемый мотив поведения. Информация сохраняется в полном объеме, но воспроизведение ее в форме произвольного воспоминания затруднено. Ослабление страха осуществляется путем забывания реального стимула и обстоятельств, связанных с ним по ассоциации. В результате в первые часы может преобладать эйфорическая реакция: «Я сделал это!», доминирует уверенность, что все проблемы будут преодолены.
В отдельных случаях эмоциональное расстройство может достигать уровня реактивного психоза, протекающего в виде фугиформной реакции, характеризующейся сумеречным состоянием сознания с бессмысленными и беспорядочными движениями, безудержным бегством. При истерической (психогенной) фуге, являющейся следствием сильного стресса, может наблюдаться амнезия, подросток может забыть о том, кто он такой, частично или полностью отождествлять себя с другой личностью. То есть воспринимается только та информация, которая позволяет объяснить собственный поступок как соответствующий обстоятельствам и имеющейся у подростка системе представлений, ценностей.
Те же элементы информации, которые не укладываются в картину, противоречат целостности, проецируются. При этом границы «Я» расширяются так, что человек, на которого производится проекция (и на которого перекладывается ответственность за ситуацию), оказывается на какое-то время внутри границ «Я». Агрессия в этом случае по отношению к этому человеку ограничивается (так как он теперь неразрывно связан с «Я») и переносится на какой-либо произвольный объект, обычно малозначимый. По отношению к реальному источнику агрессии может сформироваться «синдром заложника», с присущим ему садомазохистским комплексом. В этом случае подросток может неожиданно уехать «далеко, где его никто не знает». Как правило, это путешествие не просто бродяжничество, а предпринимается с какой-либо целью . Нередко во время фуги подросток начинает употреблять наркотики, алкоголь, вступает в беспорядочные половые связи. Первая фаза кризиса длится от нескольких часов до нескольких месяцев. Современные руководства по клинической психиатрии предписывают в подобных случаях фармакотерапию, призванную решить проблему контроля над поведением, и отмечают, что методы поведенческой психотерапии малоэффективны. Подчеркивается, что наиболее эффективной является мультимодальная терапия, включающая в определенном сочетании фармакологический, психопедагогический и психотерапевтический подходы. Психотерапевт должен контролировать попытки манипулирования со стороны больного (особенно суицидный шантаж). Отмечается также, что проведение мультимодальной терапии ограничено низкой мотивацией больных и трудностями в ее организации (Ю. Попов, В. Вид, 1997). Краткое изложение собенностей мультимодального подхода можно найти в книге А. Лазаруса. Г. Каплан и Б. Сэдок (1998) считают, что кризисная фаза может продолжаться от нескольких часов до шести недель. В это время подросток использует все имеющиеся у него ресурсы для разрешения кризиса, адаптивные дезадаптивные, причем состояние смятения делает его восприимчивым к самой минимальной поддержке и позволяет добиться значительных результатов.
По мнению Каплана и Сэдока, в кризисной фазе допустимы такие методы, как уверения, внушение, манипуляция внешними факторами и психотропная фармакотерапия. Психофармакологические средства создают предпосылки для повышения адаптационного ресурса, но нами по себе не определяют, произойдет ли адаптация.
Все эти методы направлены на снижение уровня тревоги у подростка, на быстрейшее установление терапевтического альянса, на использование позитивного переноса с целью перевести терапию в обучающую процедуру. Подростка нужно научить избегать опасных ситуаций, которые могут привести к развитию кризиса.
Психолог может столкнуться с вышеописанными проявлениями поведения подростка при работе в кризисном центре, приюте, при телефонном консультировании, в клинике. Основная задача специалиста состоит в том, чтобы способствовать снижению уровня стресса и стабилизации эмоционального состояния подростка. Для этого следует информировать его о тех ресурсах, которые у него есть для того, чтобы справиться с ситуацией: подростку нужно дать сведения о законах, защищающих право на жизнь, здоровье, получение образования, и организациях, которые призваны эти права защищать и реализовывать.
Если есть основания считать, что подросток не имеет возможности самостоятельно справиться с ситуацией, психолог обязан предпринять необходимые меры, связаться с различными службами и органами.
Следует отметить, что на первом этапе кризиса пребывание подростка в стационаре, пусть и не по собственной воле, содержит для него больше позитивных, чем негативных факторов. Решается проблема освобождения от ответственности за совершенные незначительные правонарушения, создается барьер, защищающий его от спонтанной агрессии родителей или лиц, их замещающих, создаются возможности для взятия ситуации под контроль местными органами социальной защиты в послеклиническом периоде. При терапии эмоциональных нарушений, связанных со стрессом, положительную роль играет возможность перенесения ответственности за сложившуюся ситуацию с личности подростка на болезнь, особенно в начале лечения.
Желательно в приемлемой форме дать подростку психологическую информацию, необходимую для концептуализации кризиса, при этом можно обратиться к теории психоанализа, концепциям К. Левина, А. Лазаруса.
Согласно теории К. Левина, поведение отдельного человека зависит от его личности и окружения. Сумму всех факторов, связанных с личностью, окружением и их взаимодействием, Левин называет жизненным, или психологическим пространством личности. Поведение человека — функция его жизненного пространства. Подросток уже покинул надежное жизненное пространство ребенка, а пространство взрослого им еще не построено. Подросток сталкивается с новыми требованиями, причем собственные механизмы преодоления трудностей у него отсутствуют. В теории Лазаруса критические жизненные события могут приводить либо к нарушению механизмов преодоления и патологическим явлениям, либо к конструктивным решениям. Лазарус делает акцент на позитивном варианте развития и возникающих в результате созидательных и приспособительных силах.
Можно рассматривать три стадии процесса преодоления трудностей:
1. первичная (когнитивная и аффективная) оценка ситуации;
2. вторичная оценка альтернативных возможностей решения проблемы;
3. третичная оценка, то есть переоценка ситуации и выбор новых альтернатив поведения.
Все эти стадии не обязательно разделены и следуют друг за другом. Они могут переходить одна в другую, оказывая взаимное влияние на результат.
Формирование новых стратегий преодоления трудностей происходит тогда, когда известный индивиду набор готовых шаблонов поведения оказывается исчерпанным и необходимо сделать нечто новое. Следовательно, возникновение новых стратегий преодоления трудностей ведет к дальнейшему развитию личности. Таким образом, взросление рассматривается Лазарусом как особая фаза развития, где происходит активация процессов преодоления трудностей, одновременно служащих стимулом дальнейшего развития. Эта теория является хорошей основой для концептуализации смысла подросткового кризиса. Кроме того, именно Лазарус сделал весомый вклад в разработку мультимодальной терапии, которая является основным инструментом действий психолога во второй фазе.
Важно учитывать, что в случае хронического стресса подросток может иметь развитые «фантазии семейного романа», поэтому побег может выглядеть запланированным. Эмоциональная реакция в этом случае связана с разрушением фантастических планов.
Большой вклад в описание этого феномена внес 3. Фрейд в 1908 году, показав его возникновение в латентном периоде в результате усилий ребенка, направленных на внутрипсихическое дистанцирование от родителей. Предполагая себя отвергнутым родителями, ребенок находит компенсацию в нарциссизме и фантазиях: он воображает, что является приемным ребенком или пасынком, что он имеет «благородное» или сверхъестественное происхождение и просто волей рока отдан в эту семью до тех пор, пока не появятся возможности вернуться к своим настоящим родителям. «Фантазии семейного романа» означают разочарование и крушение иллюзий: ребенок видит, что его родители не являются, как он полагал, совершенными и всемогущими. Параллельно происходит и деидеализация «образа Я», психоанализ считает эти процессы наиболее мучительными аспектами взросления. Формирование адекватного «образа Я» тесно связано с результатами деидеализации, и только на этой основе возможно установление подростком новых, более зрелых взаимоотношений с родителями и развитие у него способности к зрелой любви и симпатии, близости. Крайне сложно предугадать, является ли побег частью плана воздействия на родителей и близких.
Во второй фазе кризиса основные проблемы связаны с переживанием травматической ситуации, с переработкой травматических воспоминаний и их интеграцией.
Состояние подростка в этой фазе во многом зависит от того, что было причиной побега (единичный сильный стресс или хронический), была ли оказана квалифицированная помощь на предыдущем этапе (установлен ли терапевтический контакт с родителями или лицами, их замещающими, значимыми близкими, решен ли вопрос об ответственности за сопутствующие нарушения, например вопрос об отчислении из школы), способен ли подросток к установлению терапевтического контакта.
Наиболее сложны для коррекции поведения варианты длительного, хронического развития стресса, закрепленные семейными сценариями. Важнейшим патогенным фактором является неопределенность в отношениях с близкими.
Началом второй фазы можно считать появление положительного переноса. Если эмоциональный фон в это время еще далек от нормы, то можно говорить о начале второй фазы на фоне незавершенной первой.
Прежде чем формулировать концепцию психологической помощи подростку на этом этапе, следует учесть специфику подростка как клиента. Применяемые методы должны соответствовать уровню его развития и возможностям восприятия, несоответствие может способствовать ухудшению состояния клиента. В то же время следует иметь в виду более широкую жизненную перспективу, чем пребывание подростка в клинике или его взаимоотношения в рамках коррекционных процедур, так как путь к стратегическому успеху в любом случае лежит через кризисы и накопление подростком собственных внутренних ресурсов их преодоления. Особо важно развитие навыков самоорганизации, овладение многошаговыми стратегиями поведения в кризисных ситуациях.
После побега у подростка растет чувство вины возникает опасение быть отвергнутым навсегда он осознает неподготовленность побега и свою неприспособленность к реалиям жизни. Переживший побег подросток оказывается в ситуации, когда утрата близких, родственников друзей, имущества и жилья приводит к разрушению привычного жизненного уклада, полному и частичному разрушению среднесрочных и долгосрочных планов на будущее.
Психологическое состояние подростка во второй фазе характеризуется следующим.
Поиск «теории» события, его смысл в связи с «картиной мира»
В соответствии с теорией атрибуции Келли Хайдера, люди склонны приписывать любым событиям в жизни причины, объясняющие их происхождение. Для подростков, в силу недостатка жизненного опыта и знаний, поиск причин тех или иных является очень болезненным. Для успешной адаптации к событию подросток должен быть уверен в том, что причина найдена и он может контролировать. Соответствует ли эта причина реальности, имеет третьестепенное значение. Имея «теорию» события, индивид считает себя готовым к встрече с ним и не тревожится по этому поводу.
Подросток также хочет быть уверен в том, что причина, приписанная к событию, больше не действует, что ситуации «перед событием» и «сейчас» различаются качественно. Так в сознании создается «разрыв», позволяющий отнести событие к «прошлому». Это особенно важно по отношению к событию, переживание которого было травмирующим.
Подростку важно обладать уверенностью в том, что первые успехи после перенесенной психической травмы являются результатом его естественных усилий. Так укрепляется чувство контроля над последующими событиями. Если успех приписан психологу, терапевту, то у клиента остается чувство, что причина лежала вне контроля и кризис может возникнуть вновь.
Эффект Келли (приписывание причин успеха себе, а причин неудачи — внешним обстоятельствам) дает хороший результат в первое время после кризиса. В более отдаленной перспективе этот эффект, наоборот, может замедлить процесс выхода из кризиса. Отсюда следует простой вывод: тактика психолога в зависимости от обстоятельств должна меняться. А.Н. Дорожевец отмечает, что повторение кризисного события у тех, кто использовал внутреннюю атрибуцию, вызывает полное разрушение иллюзии контроля. Итогом такого разрушения является переход к внешней атрибуции в форме «наказания за грехи», «кармы», «порчи и сглаза».
Как правило, подросток ощущает деформацию или утрату смысла существования вследствие частичного или полного разрушения «картины мира». Многие психологи считают стремление человека к самоосуществлению главной движущей силой его развития. Эта сила напрямую зависит от способности индивида ставить перед собой цели, адекватные его внутренней сущности. Обладание такими целями — условие сохранения психического здоровья личности, ее интеграции.
Стремление восстановить чувство контроля над ситуацией и жизнью в целом
Если это чувство не возникает у подростка длительное время, то у него может наблюдаться «бегство в прошлое». Оно характеризуется тем, что источник сил для преодоления кризиса выискивается в воспоминаниях о прошлой жизни, тех ее моментах, когда она носила безоблачный характер. Со временем формируются идеализированные, не соответствующие истине, что связано с действием механизмов вытеснения и замещения. Аналогичные феномены демонстрируют и подростки, отбывавшие наказание в условиях изоляции.
Достижение положительной самооценки
Самооценка, в соответствии с теорией Л. Фестингера, является функцией социального сравнения. Индивид формирует самооценку, используя «сравнение, направленное вниз», то есть он сравнивает себя с теми, кто «хуже», чем он, и «сравнение, направленное вверх», то есть он сравнивает себя с теми, кто «лучше», чем он.
В послекризисной ситуации, особенно для подростка, определяющим для самооценки является «сравнение, направленное вниз»: непременно должен быть кто-то, кто «хуже», чем он. Но мотивирующий компонент самооценки всегда связан со сравнением, направленным вверх, то есть полезно сравнение себя с теми, кто «лучше». Этот аспект следует учитывать при формировании «групп поддержки» и любых формах групповой работы, чтобы не нарушить механизм социального сравнения, используемый подростком. Прежде чем формировать чувство ответственности, необходимо задуматься о возможном усилении чувства вины.
Полная социально-психологическая реабилитация подростка, совершившего побег, происходит только при восстановлении им целостной «картины мира» и построении представлений о позитивном будущем, реалистичного плана действий.
В целом можно выделить три основных типа поведения подростков в послекризисной ситуации:
— реальное поведение - быстрое создание нового плана поведения, соответствующего реальной ситуации;
— фантомное поведение - в его основе лежит старый план жизни, не связанный с реальными изменениями в жизненной ситуации;
— хаотическое поведение - характеризуется частой сменой плана действий.
В современной психологии общепринятым является положение о том, что обращенность в будущее, жизненные планы и перспективы образуют аффективный центр подростка, юноши. Однако формирование временной перспективы у подростка часто блокируется его нежеланием принимать на себя ответственность, у него возникает желание «остановить время», что, по мнению Э. Эрикссона, психологически означает возврат к детскому состоянию, в котором время еще не существует в переживании и не воспринимается осознанно. И.С. Кон считает такую установку, направленную на продление «эпохи моратория» с ее весельем и беззаботностью, социально опасной для личности.
Огромные трудности возникают при попытке совместить ближние и дальние перспективы с системой ценностей, заложенной в детстве, даже в стабильных обществах с ясными ценностными установками. В нашей же стране, допускающей параллельное сосуществование и развитие множества культурных образцов, в том числе, мягко говоря, сомнительных, эта задача предельно затруднена.
В ситуации побега все ранее задуманные планы подростка, если таковые имелись, рушатся, появляется необходимость срочно вырабатывать новые ориентиры. В то же время все планы являются отражением мотивационной сферы подростка, в ситуации стресса актуальными остаются только планы, связанные с безопасностью, временная перспектива сужается.
Стратегия восстановления временной перспективы основывается на том, что любой план есть соединение оценки собственной компетентности в конкретной ситуации, вероятности возникновения ситуации в соответствующей картине мира и аксеологических характеристик тех или иных действий. Следовательно необходимо в режиме диалога с подростком сформулировать для него описание возможных ситуаций, затем оценить те или иные сратегии решения проблем в возникающих ситуациях и охарактеризовать связь между действием, личностными и ситуационными изменениями.
Тип поведения во многом зависит от того, считает ли подросток возможным восстановление связи с семьей или нет. Как правило, на первом этапе это считается невозможным. Поэтому первейшая задача психолога – предложить подростку реалистический план действий на этот случай. Только после того, как подросток осознает, что может выжить без непосредственной помощи членов своей семьи, появляется возможность для применения аналитических методов.
При определении тактики коррекционной работы на этом этапе необходимо учитывать, что «преобразования», на достижение которых нацелен психолог, могут запаздывать, искажаться, блокироваться, избегаться по разным причинам. Важным ресурсом подросткового возраста является стремление клиента к накоплению опыта и связанное с ним стремление повысить самоуважение.
В этом смысле взаимоотношения с психологом воспринимаются подростком как взаимоотношения реальные, а не терапевтические. Психолог рассматривается как значимый человек, который реально может оказать помощь.
Попытка же психолога ограничится интерпретацией сновидений, ассоциаций и защитных механизмов в духе классического психоанализа разрывает психотерапевтический альянс: терапевт рассматривается как «агент» родителей и проводник неприятных социальных норм ( еще более грустной становится ситуация при попытке интерпретации в духе «эдиповой ситуации», «комплекса кастрации» или «зависти к пенису»).
Психолог может использовать взаимоотношения с подростком в качестве средства, способствующего изменениям. Томэ и Кэхеле (1996) рассматривают перенос в подростковом возрасте как «двигатель заблокированного развития». Особенно важен этот аспект в начальной фазе корркционной работы, когда подросток, совершивший побег из дома рассматривает все ранее существовавшие объектные отношения как утраченные и ищет замещающие объекты. Для психолога в этой ситуации важно чувствовать себя именно в качестве такого замещающего, переходного объекта.
Специфической чертой психоаналитической теории переноса является представление о том, что при переносе воспроизводится прошлый опыт, поэтому актуализируются конфликты, неудовлетворенные желания и потребности, которые связаны с образами бывших значимыми лиц и воспроизводятся в актуальном переносе в форме «клише».
Психолог должен позволить подростку при переносе модифицировать старые версии объектных отношений и отработать новые. При этом очень важно установить в кратчайшее время с подростком «мы-связь», чтобы с самого начала аналитическая ситуация могла быть использована как «сфера, в которой делаются открытия». Задача решается успешно, если в ситуации достигнуто равновесие между раскрытием и открытием. Психолог должен учитывать, что классическая, «строгая» интерпретация регрессивных компонентов переноса, как правило, не достигает цели, так как подросток к таким интерпретациям не готов. Чем младше подросток, тем более важными для него являются реальные отношения. При этом, как правило, подросток не стремится идентифицироваться с психологом, а, наоборот, стремится отличаться от него, переживая таким образом свою идентичность.
Очень многое в этой фазе зависит от реакции родителей на побег. Надо понимать, что их поведение в такой ситуации также определяется особенностями семейных сценариев и связанных с ними защитных механизмов. Желательно подробно рассказать им о сути подростковых кризисов и удержать от преждевременного общения с сыном или дочерью.
Наилучшие результаты достигаются тогда, когда инициатива восстановления связи с семьей исходит от подростка. У родителей в этой фазе часто складывается впечатление, что психолог стал для их ребенка человеком более значимым, чем они сами. В этом случае они могут обвинить психолога в том, что он разрушает семью, состоит в заговоре против них. Такая ситуация может крайне осложнить коррекционную работу, так как подросток оказывается вовлеченным в еще один конфликт. Родители могут придерживаться различной тактики во взаимоотношениях с психологом, в частности:
1.Пытаться использовать психолога для выполнения тех задач, которые ставили перед собой в процессе воспитания ребенка, но не смогли их решить.
2.Стремиться полностью исключить психологическую помощь под любыми предлогами, например, утверждая, что ребенок здоров, или доказывая, что в другом месте ему окажут более квалифицированную помощь. Это может косвенно свидетельствовать, например, о попытке скрыть факты внутрисемейного насилия.
3.Пытаться вступить с психологом в конкурентные отношения, например путем неадекватного «задаривания» ребенка.
4. Пытаться предложить психологу «дружбу семьями».
Как правило, все эти тактики используются в различных комбинациях на разных этапах терапии.
В случае, когда родители настаивают на досрочном, с точки зрения психолога, прерывании терапии, психолог должен согласиться с этим, однако следует оставить родителям и особенно подростку возможность для обратного хода.
Условной границей, свидетельствующей о переходе от второй фазы коррекционных мероприятий к третьей, может служить то или иное проявление подростком активности, направленной на конструктивное решение проблемы, которой он ранее не справился: начинается обсуждение условий, при которых возможна встреча с родителями, учителями, родственниками, одноклассниками.
Третья фаза коррекционной работы связана с реинтеграцией личности подростка, формированием устойчивости к травматическим переживаниям и восстановлением связей. Практически она может проводиться школьными психологами или психологами специализированного психолого-медико-социального центра системы Министерства образования. Описание стратегии и тактики такой работы будет предметом отдельной работы.
Список литературы:
1. Агапов Е. П., Волощукова К. В. История социальной работы. М., 2009.
2. Агапов Е. П. Социальная помощь в России. Ростов-на-Дону, 2001.
3. Белокрылова Т.С. Сборник материалов по некоторым проблемам консультирования от А до Я. Часть1. г. Советский, 2004.
4. Глаголева А. В. Беспризорность. Социально-психологические и педаго-
гические аспекты. М., 2004.
5. Исторический опыт социальной работы в России / Под ред. Л. В. Бади.
М., 1994.






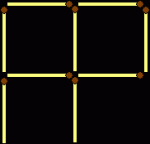







 (zip - application/zip)
(zip - application/zip)










