Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Кунгурский центр образования №1»
А.И. Куприн и цирк:
становление цирка как вида искусства и его влияние на творчество писателя
(на примере рассказа «Allez!»)
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯРАБОТА
Студент
А.В. Патласова
Руководитель работы А.А. Абросимова
2016
СОДЕРЖАНИЕ
|
ВВЕДЕНИЕ |
3 |
|
1 ОТ «КАЗЕННОГО МАЛЬЧИКА» К «ПЕВЦУ ВОЗВЫШЕННОЙ ЛЮБВИ» |
|
|
1.1 Общая характеристика творчества А.И. Куприна |
5 |
|
1.2 Возникновение интереса Куприна к цирку |
9 |
|
2 ЦИРК XX ВЕКА |
|
|
2. 1 Возникновение цирка как вида искусства |
15 |
|
2. 2 Жанровое своеобразие циркового искусства XX века |
18 |
|
3 КУПРИН И ЦИРК |
|
|
3.1 Цирковое окружение Куприна и его влияние на жизнь и творчество писателя |
23 |
|
3.2 Отражение реальности цирковой жизни в рассказе А.И. Куприна «Allez!» |
25 |
|
ЗАКЛЮЧЕНИЕ |
29 |
|
ЛИТЕРАТУРА |
31 |
|
ПРИЛОЖЕНИЕ |
32 |
ВВЕДЕНИЕ
Среди выдающихся русских писателей начала XX века одно из наиболее видных и своеобразных мест принадлежит Александру Ивановичу Куприну. Начав литературную деятельность в самом конце 80-х годов прошлого века, Куприн за свою почти пятидесятилетнюю творческую жизнь создал немало значительных произведений, выдержавших испытание временем. Он принадлежит к тем писателям, которые умеют заинтересовать читателя сюжетом рассказа, поразить неожиданной развязкой. Но подчас у него внимание к маленькому человеку оборачивается сентиментальностью, а динамичность повествования – внешней занимательностью.
В наше время такой заслуженный писатель не получает должного внимания. Когда речь заходит о творчестве Куприна, то в первую очередь вспоминают повести «Гранатовый браслет», «Олеся». Но ведь в его творчестве есть и немало других стоящих и важных для понимания эпохи, в которой он жил, произведений. Становление цирка как вида искусства в конце XIX начале XX века, близкое знакомство Куприна с цирковыми артистами, романтические отношения с несколькими прекрасными артистками – весь колорит эпохи и личные переживания писателя нашли отражения в великолепном произведении А.И. Куприна «Allez!». Цирк показан нам «изнутри». Мастерство писателя заставляет нас прожить не один день вместе с героями произведения, ощутить всю тяжесть их жизни. Мы ведь не особо уделяем внимание тому, что на самом деле испытывают артисты на арене, нам важно лишь само шоу, зрелище. Автор знакомит нас с обратной стороной цирковой жизни.
Подобным по замыслу является чудесная полная человечности миниатюра «Allez!», которой в свое время восхищался Лев Толстой. В рассказе также раскрывается тема циркового искусства, которая занимает важное место в творчестве писателя. Текст данного произведения послужил материалом для нашего исследования.
Цель исследования состоит в изучении, описании и анализе в рассказе А.И. Куприна «Allez!» различных лингвистических единиц, через которые автор передает читателю свое видение и понимание жизни циркового артиста.
Цель работы определила конкретные задачи исследования:
1. Изучить историю становления циркового искусства.
2. Ознакомиться с произведениями А.И. Куприна, в которых раскрывается тема цирка.
3. Остановившись на рассказе «Allez!», выявить все лингвистические единицы, через которые автор рисует нам картину жизни циркового артиста.
4. Сгруппировать их по темам.
5. Проанализировать получившиеся тематические группы.
Методы исследования:
1. Интерпретационный анализ, что дает возможность прибегнуть к интерпретации материала, делать выводы на основе собственных умозаключений, используя знания из смежных с лингвистикой областей.
2. Контекстуальный анализ, который позволяет определить взаимосвязь рассматриваемых лексических единиц с другими единицами, дает представление об ассоциациях, которые могут возникнуть в определенном контексте.
Актуальность нашего исследования заявлена в самом начале работы: обращение внимание к творчеству незаслуженно забытого великого писателя А.И. Куприна, чье имя когда-то стояло наряду с М.Горьким, И.А. Буниным. Литературное наследие Куприна значительно и по объему, и по содержанию.
Новизна исследования заключается в попытке самостоятельного осмысления заявленной проблемы, обращении к небольшому по объему произведению для достижения поставленной цели.
1 ОТ «КАЗЕННОГО МАЛЬЧИКА»[1] К «ПЕВЦУ ВОЗВЫШЕННОЙ ЛЮБВИ»[2]
1.1 Общая характеристика творчества А.И. Куприна
Это – мудрость верной силы,
В самой буре – тишина.
Ты – родной и всем нам милый,
Все мы любим Куприна.
Константин Бальмонт
Творчество Александра Ивановича Куприна формировалось в годы революционного подъема. Ему всю жизнь была близка тема прозрения простого русского человека, который жадно искал правду жизни. Его искусству, по выражению современников, была присуща особая зоркость видения мира, конкретность, постоянное стремление к познанию. Познавательный пафос купринского творчества сочетался со страстной личной заинтересованностью в победе добра над всяким злом. Поэтому большинству его произведений присуща драматичность, взволнованность.
Биография Куприна похожа на роман приключений. В автобиографии писателя приведён поистине устрашающий список тех занятий, какие он перепробовал, расставшись с военным мундиром. Сумбурные, лихорадочные метания, смена «специальностей» и должностей, частые разъезды по стране, обилие новых встреч - все это дало Куприну неисчерпаемое богатство впечатлений, - требовалось художественно обобщить их.
В прозе Куприна второй половины 90-х годов «Молох» выделяется как прямое обвинение капитализма. Это была уже во многом настоящая «купринская» проза с её, по словам Бунина, «метким и без излишества щедрым языком». Так начинается стремительный творческий расцвет Куприна. Вслед за «Молохом» появляются произведения, выдвинувшие писателя в первые ряды русской литературы. «Прапорщик армейский», «Олеся» и затем, уже в начале XX столетия, - «В цирке», «Конокрады», «Белый пудель» и повесть «Поединок».
В 1901 году Куприн приезжает в Петербург. В 1897 году он познакомился с И. А. Буниным, несколько позднее - с А. П. Чеховым, а в ноябре 1902 года - с М. Горьким. Руководимое М. Горьким демократическое издательство «Знание» выпускает в 1903 году первый том купринских рассказов, положительно встреченных критикой. Так же Куприн сближается с руководителями журнала «Мир Божий» - Ф. Д. Батюшковым и А. А. Давыдовой. Некоторое время он деятельно сотрудничает в «Мире Божьем» и как редактор, а также печатает там ряд своих произведений: «В цирке», «Болото», «Корь», «С улицы», но к чисто редакторской работе, мешавшей его творчеству, скоро охладевает.
В творчестве Куприна в эту пору всё громче звучат обличительные ноты. Новый демократический подъём в стране вызывает у него прилив творческих сил, крепнущее намерение осуществить давно задуманный замысел - «хватить» по царской армии, этому средоточию тупости, бесчеловечности, праздно-изнурительного существования. Так накануне первой революции складывается крупнейшее произведение писателя - повесть «Поединок», над которой он начал работать весной 1902 года. Уверенность в себе, в своих силах Куприн, человек крайне мнительный и неуравновешенный, находил в дружеской поддержке М. Горького.
В Очаковскую пору Куприн пишет рассказы «Штабс-капитан Рыбников», «Сны», «Тост», начинает работу над очерками «Листригоны».
В течение первого десятилетия 900-х годов талант Куприна достигает наивысшего расцвета. В 1990 году писатель получил за три тома художественной прозы академическую Пушкинскую премию. В противовес всё сильнее свирепствовавшему декадансу, талант Куприна остается и в эту пору реалистическим, в высшей степени «земным» художническим даром.
Однако годы реакции не прошли бесследно для писателя. Свои новые произведения Куприн помещает не в выпусках «Знания», а в «модных» альманахах - «Жизни», «Шиповнике», «Земля». Если говорить об известности Куприна - писателя, то она в эти годы все продолжает расти, достигая своей высшей точки. Вскоре после жестокого подавления революции 1905 -1907 годов, он создает утопию «Королевский парк». Вслед за полнокровно - реалистическим циклом очерков «Листригоны», появляется фантастическая повесть «Жидкое солнце», несколько необычная для Куприна по экзотичности материала.
Противоречивость творчества Куприна 1910-х годов отражала растерянность писателя, его неуверенность и непонимание происходящего. И когда началась русско-германская война, он оказался в числе тех литераторов, которые восприняли её как «отечественную» и «освободительную». В немногочисленных его произведениях этих лет знакомые по прежнему творчеству темы утрачивают социальную остроту.
Так в предреволюционную пору, в обстановке творческого кризиса, завершается главный период писательской деятельности Куприна, когда были созданы самые значительные его произведения.
В обширном литературном наследии Куприна то оригинальное, купринское, что принес с собой писатель, лежит на поверхности. Через всё творчество Куприна проходит гимн природе, «натуральной» красоте и естественности. Отсюда его тяга к цельным, простым и сильным натурам. При этом культ внешней, физической красоты становится для писателя средством обличения той недостойной действительности, в которой эта красота гибнет.
И всё же, несмотря на обилие драматических ситуаций, в произведениях Куприна бьют ключом жизненные соки, преобладают светлые, оптимистические тона. Таким же здоровым жизнелюбцем, что и в творчестве, предстаёт и в своей личной жизни этот крепкий, приземистый человек с узенькими зоркими серо-синими глазками на татарском лице, которое кажется не таким круглым из-за небольшой каштановой бородки. Впечатление Л. Н. Толстого от знакомства с Куприным: «Мускулистый, приятный... силач». И в самом деле, с какой страстью отдастся Куприн всему, что связано с испытанием крепости собственных мускулов, воли, что сопряжено с азартом и риском. Он словно стремится растратить запас не израсходованных в пору его бедного детства жизненных сил. Организует в Киеве атлетическое общество. Вместе с известным спортсменом Сергеем Уточкиным поднимается на воздушном шаре. Опускается в водолазном костюме на морское дно. Летит с Иваном Заикиным на самолете «Фарман». Сорока трех лет вдруг всерьёз начинает учиться стильному плаванию у мирового рекордсмена Л. Романенко. Страстный любитель лошадей, цирк предпочитает опере. Во всех этих увлечениях что-то азартно-детское. Его друзья: борцы Иван Поддубный и Заикин, спортсмен Уточкин, знаменитый дрессировщик Анатолий Дуров, клоун Жакомино, рыбак Коля Костанди. Живя из года в год в Балаклаве, Куприн сразу «сдружился с некоторыми рыбацкими «атаманами», которые славились своей отвагой, удачливостью и храбростью.
Но есть что-то лихорадочное, напряженное в поспешной смене всех этих увлечений. Словно в Куприне жило два человека, мало друг на друга похожие, а современники, поддавшие, впечатлению одной, наиболее явной стороны его личности, оставили о нём неполную истину. Лишь наиболее близкие писателю люди, вроде Ф. Д. Батюшкова, сумели разглядеть эту двойственность.
Февральская революция, которую Куприн встретил восторженно, застала его в Гельсингфорсе. Он немедленно выезжает в Петроград, где вместе с критиком П. Пильским некоторое время редактирует эсеровскую газету «Свободная Россия». В его художественных произведениях этой поры (рассказы «Храбрые беглецы», «Сашка и Яшка», «Гусеница», «Звезда Соломона») нет прямых откликов на бурные события, переживаемые страной. Куприн сотрудничает, однако, в буржуазных газетах «Эра», «Петроградский листок», «Эхо», «Вечернее слово», где выступает с политическими статьями «Пророчество», «Сенсация», «У могилы» (памяти видного большевика М. М. Володарского, убитого эсером), «Памятники» и т. д. В этих статьях сказывается противоречивая позиция писателя.
Стечение случайных обстоятельств приводит Куприна в 1919 году в стан эмиграции. В эмиграции он пишет роман «Жанет». Этот период Куприна характеризуется уходом в себя. Крупное автобиографическое произведение того периода — роман «Юнкера».
В эмиграции писатель Куприн не утратил веры в будущее своей Родины. В конце жизненного пути он все-таки возвращается в Россию. И его творчество по праву принадлежит русскому искусству, русскому народу.
1.2 Возникновение интереса Куприна к цирку
Куприну было шесть лет, когда на Кудрикку, в дом, где он жил с матерью, явился навестить свою родственницу мальчик лет одиннадцати, который знал разные цирковые номера. Это был впоследствии знаменитый клоун и дрессировщик Анатолий Владимирович Дуров. Маленький Анатолий где-то в заднем коридоре, чтобы никто не видел, показал Саше Куприну, как он умеет прыгать, кувыркаться, строить гримасы и говорить «чужим языком». Саша смотрел на него как на чудо. Легко представить, какое после этой встречи сильное желание самому стать цирковым артистом возникло у него.
Спустя несколько лет, воспитываясь в закрытых учебных заведениях, Куприн во время воскресных отпусков стремился не к домашнему уюту, не к играм со сверстниками, а прежде всего в цирк или к зверям в Зоологический сад, где он мог бродить с утра до вечера, внимательно присматриваясь к повадкам животных. В Румянцевском приюте, когда ему было десять лет, Куприна обуяла совершенно фантастическая мысль о том, что если очень быстро прыгать через веревку-скакалку, то можно взлететь на воздух. Мальчик решил это проверить. Взобрался на гимнастический столб, замахал веревкой, прыгнул вниз, но полета, конечно, не получилось. Саша лежал на земле и потирал ушибленную коленку.
Когда Николай Вержбицкий однажды спросил у Куприна — откуда у него это постоянное, неостывающее и глубокое увлечение цирком, он, не задумываясь, ответил: «Я, видите ли, потомственный укротитель. Мой дядя, мелкий наровчатский помещик, на всю Пензенскую губернию славился своим уменьем «приводить в порядок» полудиких башкирских коней. Татарин по происхождению, он безумно любил скачки, борьбу и всякий сабантуй,— то есть народные увеселения с танцами, с хождением по канату и стрельбой из лука, где награждаются самые сильные, ловкие и сметливые».[3]- Улыбнувшись, Александр Иванович закончил таким признанием: «Увы, в итоге своих артистических увлечений мой дядя умер нищим. Наверное, нищим умру и я. Но это меня не пугает и не останавливает. Ведь и голодному мне будет о чем вспомнить.»
Александр Иванович всегда был скромен, если дело касалось его самого. Если у него не было для дрессировки полудиких жеребцов, он у себя на кухне в Гатчино «укрощал» черных тараканов. Они сбегались к хлебу на скрип пробкой о стекло. Самых понятливых и быстрых он отмечал белым пятнышком на спине, ставя его кисточкой.
В рассказе «По ту сторону» Куприн, вспоминая свои собственные похождения, вывел подпоручика Александрова, который, ради трюка, верхом на старой, одноглазой, бракованной лошади поднялся по лестнице на второй этаж в ресторан, не оставляя седла, выпил рюмку коньяку и спустился вниз, на улицу, где его встретила толпа восхищенных горожан. «Вы скажете, что это — одна только причуда скучающего офицера. Причуда? А ну-ка, попробуйте научить одноглазую лошадь ходить по лестнице, и не только наверх, но и вниз! Мои друзья из цирковых дрессировщиков и наездников подтвердят, что это один из самых трудных номеров с животными». – Рассказывал Александр Иванович.
Куприн еще в корпусе и в юнкерском училище был знаменит как гимнаст, танцор и отличный строевик. В нем от рождения жила любовь к точным и ловким движениям. Поэтому нет ничего удивительного, что он (как сообщается в том же рассказе), ни секунды не раздумывая, прыгнул в окно со второго этажа в ответ на вызов одной не очень умной полковой дамы, которая обещала за это свой поцелуй, Куприн прыгнул, слава богу, не сломал себе ноги, тотчас поднялся наверх и сказал даме с вежливым поклоном: «Разрешите отказаться от вашего поцелуя, так как любой офицер нашего полка может проделать такую же гимнастическую безделицу!» На самом деле, конечно, это было не так. Прыжок был рискованный. И молодого Куприна вынудил к нему не обещанный поцелуй, а самолюбие прирожденного «циркача», неудержимое стремление еще раз проверить свои способности, ну и, безусловно, желание покрасоваться, свойственное каждому артисту.
В Киеве Куприн познакомился с борцом Иваном Максимовичем Поддубным, который в то время боролся только «на поясках»[4]. Куприн убедил его перейти на классическую борьбу[5], участие в чемпионатах которой впоследствии принесло Поддубному мировую славу. В Киеве же Куприн участвовал в организации Атлетического общества. В легком весе он сам боролся с довольно серьезными противниками.
Знакомство Куприне с И. В. Лебедевым («Дядей Ваней»), организовавшим в петербургском цирке «Модерн» чемпионат классической борьбы, состоялось в 1909 году. Во время этих состязаний иногда судейский столик занимал и Куприн. Частенько во время сложного или неясного положения на ковре шумная и требовательная галерка протестовала против свистка «Дяди Вани», а он, со свойственным ему хладнокровием и уверенностью, произносил: «Пррравильно!» Тогда зрители требовали: «Куприна! Пусть Куприн судит!» Поднимался знаменитый писатель, автор прогремевшего «Поединка», и говорил, показывая на арбитра: «Не шумите, друзья, он прав!» И цирк умолкал.
В те же годы появился в цирке «Модерн» клоун и гимнаст итальянец Жакомино. Это был человек небольшого роста, суховатый, мускулистый, хорошо тренированный прыгун. Жакомино был всегда весел, добродушен, неприхотлив. Безумно любил Италию и «самую лучшую женщину в Италии» — свою мать. Может быть, именно его рассказы о родине и трогательная привязанность к матери привлекли Куприна к Жакомино. Скоро клоун стал своим человеком в «зеленом домике» в Гатчино. Он звал писателя в Италию, обещал быть чичероне[6]. Куприн поехал, но друга своего не застал: его неожиданно ангажировали в Париж. Зато появились на свет прекрасные купринские очерки «Лазурные берега».
До последних дней своей жизни Куприн дружил с борцом Иваном Заикиным. Заикин был красивый, прекрасно сложенный силач. Сперва он работал с гирями, рвал цепи и гнул у себя на шее стальные балки. Куприн убедил и его перейти на классическую борьбу. Мало того — он увлек Заикина авиацией. В Одессе они вдвоем совершили один из первых в России полетов на «этажерке» — биплане[7], который сделал в воздухе около полукилометра, а затем грохнулся на землю.
В уже почтенном возрасте Куприна увлекало жонглирование[8]. Будучи у него в гостях, можно было наблюдать во время обеда, как Александр Иванович через весь стол с большой точностью бросает пустую тарелку, а ее с такой же ловкостью подхватывает один из гостей, конечно, кто-нибудь из профессиональных жонглеров[9].
Друг Куприна Ф. Д. Батюшков в своих неопубликованных воспоминаниях рассказывает о том, что уже пожилой Куприн с большим увлечением и настойчивостью часами предавался у себя дома какому-нибудь чисто цирковому тренировочному занятию, например накатыванию детского деревянного обруча на мелкую монету, лежащую на полу шагах в двадцати. У Куприна было неважное зрение, и поэтому он вдвойне радовался каждому своему удачному выстрелу из мелкокалиберной винтовки.
Пожалуй, никто из писателей всех времен и всех стран не уделил столько внимания цирку, как Куприн.
Однажды в 1912 году на квартире у И. В. Лебедева шла беседа о судьбах цирка, которую вели люди, близкие к этому делу. Хозяин дома с большой фантазией рисовал картины полностью реформированного цирка, в котором круглая арена должна быть только одним из элементов, получит широкое применение то, что называется «театром недоразумений и здорового смеха». По его мнению, следовало восстановить забытую фигуру «деда-зазывалы»[10], «Петрушку»[11], «вербный базар»[12] и прочее. Борец Заикин настаивал на том, что цирк должен стать одной только школой силы и ловкости. Он был против всяких «фокусов»[13]. Куприн мечтал о русском цирке, о создании отечественных кадров цирковых артистов, о создании своего репертуара, свойственного выдумке и мудрости народов, населяющих Россию: «Неужели я когда-нибудь дождусь, » — говорил он, — «когда на цирковых афишах вместо иностранных, к тому же выдуманных фамилий появятся Ивановы, Габитуллины, Дадвадзе и Сидоренки. Ей-богу, они создадут репертуар не хуже, а обязательно лучше и оригинальнее, чем иностранцы, потому что у нас и мускулы крепче, и смелостью судьба не обидела и терпения хватает. А смеяться?! Ого, да мы пересмеем всех в мире, потому что смех у нас особенный!»
2 ЦИРК XX ВЕКА
2.1 Возникновение цирка как вида искусства
Искусство[14] – 1) особая форма общественного сознания и человеческого деятельности, представляющая собой отражение действительности в художественных образах; 2) составная часть духовной культуры человечества, специфический род духовного освоения действительности и воспроизведения образно-символического содержания; 3) совокупность различных видов художественного творчества – литературы, архитектуры, скульптуры, живописи, графики, музыки, танца, театра, кино и др.
Искусство существует как система отдельных его видов. В настоящее время существуют следующие виды художественного творчества: архитектура, декоративно-прикладное искусство, скульптура, живопись, графика, художественная фотография, литература, музыка, хореография, театр, кино, телевидение, эстрада, цирк. Каждый из этих видов обладает своими особенностями, хотя границы между отдельными видами искусства не абсолютны, чаще всего они переплетены между собой или сочетаются различным образом, поскольку воплощают общие законы художественной деятельности.
Исторически сложились устойчивые формы существования и развития искусства - архитектура, декоративно-прикладное искусство, скульптура, живопись, графика, художественная фотография, литература, музыка, хореография, театр, кино, телевидение, эстрада, цирк, которые и получили название видов искусства. Этим видам искусства соответствуют определенные разновидности художественной деятельности.
Искусство существует и исторически развивается как система взаимосвязанных между собой видов, многообразие которых обусловлено многообразием и многогранностью самого реального мира, отображаемого искусством. Каждый из видов искусства, отражая мир в целом, обладает определенными преимуществами в более прямом, ярком и совершенном отображении каких-то из его сторон, граней, явлений. Виды искусства различаются по способам воспроизведения действительности и художественным задачам, а также по специфическим материальным средствам создания образа. Каждый из них имеет свои особые роды и жанры (внутренние разновидности)
Различаются искусства пространственный, или пластические (архитектура, декоративно-прикладное искусство, скульптура, живопись, графика, художественная фотография), для которых пространственное построение существенно в раскрытии видимого образа; временные (музыка, литература), где преимущественное значение приобретает развертывающаяся во времени композиция; и пространственно-временные (хореография, театр, кино, телевидение, эстрада, цирк), которые называют также синтетическими или зрелищными искусствами. В некоторых видах искусства художественный образ возникает на основе другого, нехудожественного вида деятельности (в архитектуре на основе строительства, в декоративно-прикладном искусстве на основе создания полезных вещей, в художественной фотографии – документальных снимков и т. д.). Некоторые разновидности эстрадного и циркового искусства сочетают в себе элементы искусства и спорта.
Слово «цирк» произошло от прилагательного «circus» (круглый) ведь цирк со времен древнеримского Колизея и до наших дней круглая арена.
История цирка насчитывает несколько тысячелетий. Еще в Древнем Египте и Древней Греции существовали фокусники[15], акробаты[16] и дрессировщики животных. Но самый первый цирк появился в Древнем Риме и назывался он Circus Maximus[17].
Это был огромный ипподром, где устраивались гонки между колесницами. При Августе цирк получил свою постоянную архитектурную форму - два этажа мест для зрителей и внешние аркады, где располагались трактиры и лавки. При Траяне количество мест для зрителей было увеличено.
Со временем цирк постепенно развивался. Цирковые представления были очень популярны в Средневековой Европе. Ни одно массовое гуляние не обходилось без выступлений канатоходцев, жонглеров и акробатов. В XVI веке стали появляться первые школы верховой езды, обучающие наездников и дрессировщиков лошадей. На основе таких школ стали создаваться цирки в различных городах Европы, правда, назывались они амфитеатрами.
В конце XVII века демонстарции искусства верховой езды, которые устраивал Филип Астли (Англия) в Ламберте, Лондон, стали прообразом первого цирка. В 1772 году в Лондоне был открыт первый стационарный цирк, который назывался «Амфитеатр Астли». К 1777 году Астли нанял силача, к 1780 году - двух клоунов и нескольких акробатов.
Первый цирк на материковой части Европы основал в 1780 году Хуан Порте (Испания) в Вене, Австрия, первым в Америке стал «Цирк Риккетс» в Филадельфии, основанный в 1792 году.
В 1870 году братьями Франконни в Париже было открыто первое здание с вывеской «Цирк». В России стационарный цирк появился в 1873 году в Пензе, его основателями были братья Никитины.
С тех пор, здания, где выступали дрессировщики и наездники стали именоваться цирками. Другие цирковые артисты продолжали выступать на площадях.
С середины XIX века в Европе, а затем и в России, стали возникать стационарные цирки, имевшие шатерный навес и круглую арену. Наличие светильников в цирке позволило проводить представления в более позднее время, что увеличивало количество зрителей. В XX веке цирк приобрел мировую славу.
Первым показанным по телевизору стал цирк Бертрама Миллза, передача шла из «Olympia», Лондон, в 1938 году.
Современный цирк представляет собой круглый зал, с манежем внутри, вокруг которого-места для зрителей. Существую также передвижные и разборные цирки, их называют «шапито»[18]. Несмотря на то, что цирк возник в далекой древности, он и сегодня не теряет своей популярности, ведь язык цирка понятен без перевода во всех странах.
2.2 Жанровое своеобразие циркового искусства XX века
Во второй половине ХIХ столетия наступление индустриальной эры постепенно привело к упадку конного искусства. Прежде люди постоянно имели дело с лошадьми; лошадь служила символом благородного происхождения (традиция, восходящая ко временам рыцарства) и Мужества: «Благороднейшее завоевание человека...» Искусство верховой езды умение управлять лошадью, подчинять ее своей воле, союз человека и коня, сочетание их тел, то сливающихся воедино в прыжке, то внезапно отрывающихся друг от друга,— прежде все это приковывало к себе внимание зрите лей, постоянно имеющих дело с лошадьми и лишь по недостатку таланта или времени не овладевших верховой ездой так, как Филип Астлей или Лоран Франкони.
Но время шло, машины начинали играть все большую роль в жизни человека; общественный транспорт, па и электричество вытесняли лошадей в деревню с ее неторопливым ритмом жизни, и ряды любителей конного искусства редели.
Преимуществом цирка было разнообразие его жанров: клоуны развлекали публику, дрессировщики удовлетворяли ее потребность в экзотике, акробаты приводили ее в трепет, а все зрелище в целом поражало воображение: цирк — живое искусство; человек еще долго будет поражать человека.
Итак, по мере развития цирка жанры, прежде считавшиеся второстепенными, выходили на первое место, оттесняя тот благородный вид искусства, что царил прежде, - верховую езду.
Но в новом столетии у цирка появились серьезные соперники. Во-первых, мюзик-холл с его гораздо более изощренным оформлением: прожекторами, декорациями, костюмами, музыкой, сложными техническими приспособлениями. Все эти новшества родились на цирковой арене; мюзик - холл позаимствовал их у цирка, где царит труд, то есть будничность, и от зрителя требуется больше внимания в сопереживания», и перенес в воздушный мир грез.
Вторым соперником стало кино: вначале оно было немым, но фильмы непременно шли под музыку, причем аккомпанировали отнюдь не одна только пианисты, как многие сейчас полагают, порой во время демонстрации киноленты в зале играл оркестр из семидесяти музыкантов, а орган воспроизводил шум поезда или грохот землетрясения: благодаря этому фону изображение приобретало объемность, жизни в конечном счете впечатляло гораздо больше, чем реальная действительность. Появление звукового кино сделало новое искусство еще более могущественным конкурентом цирка.
Наконец, самый опасный соперник - телевидение, дающее возможность побывать на представлении, не выходя из дома.
Но можно с уверенностью утверждать: ни одной из этих новых форм не удалось сокрушить цирк, ни одной моде до сих пор не удалось надолго отвратить публику от любимого искусства.
Цирку пришлось приспосабливаться к новым условиям.
Первым проявлением этого процесса стало увеличение числа передвижных цирков. Подлинных ценителей циркового искусства осталось мало, поэтому постоянные труппы, выступавшие в стационарах, начали распадаться, что позволило чаще и существен нее обновлять программу. Однако существовал и другой путь: переезжая с места на место, труппа получила возможность менять не программу, а зрителей.
Вначале европейские передвижные цирки представляли собой временные деревянные сооружения; устанавливали их на ярмарках. С собой труппа возила лишь реквизит и часть декораций, а саму по стройку каждый раз приходилось возводить заново. Потом появились полуфабрикаты брезентовые купола, натянутые на деревянный (впоследствии металлический) каркас, и дощатые стены. Это легкое и практичное оборудование можно было возить за собой из города в город. Ранси и Палисс во Франции, Миккени в Голландии и Сарразани в Германии были последними, кто остался верен этим сборно-разборным конструкциям.
Решающее влияние на развитие передвижных цирков оказали американские нововведения (карнизные опоры, использование нескольких центральных мачт, поездки по железной дороге). Турне Цирка Барн и Бейли в начале столетия открыло европейцам новые методы работы, которые они тут же переняли, а затем видоизменили, приспособив к собственным нуждам; так, в Европе, где расстояния сравнительно невелики, оказалось удобнее ездить на машинах, а не на поезде.
Даже внутреннее убранство шапито претерпело значительные изменения. Прежде всего, зрители получили возможность видеть представление «в новом свете на смену свечам пришло газовое, а затем электрическое освещение. Разумеется, быстрее всего стали использовать электричество стационары, но и шапито недолго обходились без него. Первыми установили в своем шапито электрогенератор Купер и Бейли в тысяча восемьсот семидесятом году; их примеру вскоре последовали директора многих других цирков, которых расцвет мюзик-холлов заставил тщательнее заботиться об освещении представлений. Цирк не нуждается в особенно изощренных световых эффектах, но некоторые номера много теряют, не будучи высвечены лучом прожектора. Однако этим достижением технического прогресса не стоит злоупотреблять, поскольку оно часто приносит цирковым номерам больше вреда, чем пользы.
Что касается акустических устройств, то они во многих случаях оставляют желать лучшего. Держа микрофон перед носом, как эскимо на палочке, артист лишает себя необходимой свободы движений. Кроме того, современная страсть к усилению и искажению звука совершенно противопоказана цирку. Нужно знать меру и не путать блеск и размах, непременные качества циркового представления, с шумом и треском.
Еще медленнее и труднее совершенствовалось устройство зрительного зала.
Стационарный цирк нетрудно протопить, в нем можно без труда установить мягкие кресла, но для директора брезентового шапито, которое нужно быстро собрать и разобрать, все это проблема. В 30-е годы для отопления стал регулярно применяться воздухонагнетательный насос, соединенный с шапито брезентовыми муфтами; во второй половине нашего столетия этот тип отопления получил повсеместное распространение.
Что касается мест для зрителей, то деревянные трибуны и скамьи до сих пор остаются самым практичным, хотя и не самым комфортабельным выходом из положения; оказалось, что и здесь возможен некоторый прогресс: в 50-е годы в Цирке Ринглингов, Барнума и Бейли появились специальные прицепы с откидными сиденьями: они устанавливаются на равном расстоянии друг от друга перпендикулярно скаковому кругу; после этого их боковые стенки поднимаются и образуют вместе с крышами единую поверхность; на этой поверхности укреплены откидные сиденья, и перед представлением она наклоняется в сторону манежа. Внутри прицепов располагаются артистические уборные, а в пути эти помещения можно использовать для перевозки инвентаря. Таким образом, эта система выгодна во многих отношениях. Из европейцев ее взяли на вооружение (впрочем, с меньшим успехом) Дарикс Тоньи в Италии, Чип перфильды, братья Роберты и сэр Роберт Фоссет в Англии.
В немецких шапито у трибун есть спинки, а в швейцарском Цирке Кин на них укреплены съемные мягкие сиденья. В больших итальянских шапито, например, у Мойры Орфен, в первых рядах устанавливаются легкие плетеные кресла, какие стоят обычно на верандах. а в некоторых рядах низкие сиденья на подобие тех, что бывают в спортивных автомобилях.
После второй мировой войны к трудностям, вызванным конкуренцией кино и телевидения, прибавилась проблема рабочей силы. Рассуждая о том, что в прежние времена в оркестрах цирков Кроне, Сар Разани или Глейха играло до сотни музыкантов, не следует забывать, что эти виртуозы были монтировщиками и параллельно занимались сборкой шапито; в ту пору от музыкантов (большей частью чехов по национальности, отсюда их прозвище «чехо») требовалась не только одаренность, но и привычка к бродячей жизни. В наши дни все цирки, и стационарные и передвижные, подчиняются одним и тем же законам. Профсоюзы музыкантов, обычно весьма могущественные, выступают против использования чернорабочих в качестве музыкантов.
Цирку пришлось считаться с новыми условиями. На помощь человеку пришла техника; реквизит стал легче и удобнее в обращении, но при этом сборка, упаковка, перевозка конструкций усложнились и приобрели едва ли не решающее значение.
И если в первой половине ХХ столетия с цирком произошли большие изменения, то во второй поло вине он переродится полностью: исчезнет чудесное племя творцов, ценой неимоверных усилий воплощавших мечту в действительность, людей, чья жизнь была непрекращающейся цепью приключений; им на смену постепенно придет двуглавое чудовище, соединяющее в себе дельца и его помощника артиста.
3 КУПРИН И ЦИРК
3.1 Цирковое окружение Куприна и его влияние на жизнь и творчество писателя
Как известно, тема цирка занимала большое место в творчестве Александра Ивановича Куприна. Но мало кто знает, что многие артисты, с которыми лично был знаком писатель, являются героями его произведений. В 1894 году на юге России с большим успехом гастролировала известная укротительница Зенида. Куприн в рассказе «Люция» описал одно из самых сильных впечатлений своей жизни, когда он, цирковой репортер киевских газет, влюбленный в эту дрессировщицу, вошел по ее предложению к ней в клетку со львами и там выпил бокал шампанского за здоровье бенефициантки и почтеннейшей публики. (В клетке львов укротительницы Зениды и происходит главное действие рассказа «В клетке зверя»).
Следует отметить также, что рассказ «Лолли» посвящен памяти Энрико Адвени — жокея, блестящего артиста, с которым писатель мог встречаться в Киеве. Куприн, физически очень сильный человек, увлекался спортом, цирковой борьбой. Он дружил со многими борцами: И. М. Заикиным, И. В. Лебедевым — «дядей Ваней» и другими.
Писатель выучил Заикина грамоте, летал вместе с ним на аэроплане («Мой полет»). В очерке «Над землей» рассказано о встречах Куприна перед этим полетом на аэродроме в Одессе с приятелями-борцами, в том числе с негром Мурзуком.
С «дядей Ваней» Александра Ивановича связывали также и литературные интересы; в журнале «Геркулес», издаваемом И. В. Лебедевым, печатались статьи Куприна о спорте. В его статье «Борьба и бокс» имеется упоминание о «моем друге И. В. Лебедеве».
Куприн хорошо знал Анатолия Леонидовича Дурова. Ему писатель посвятил очерк «Об Анатолии Дурове». В нем Куприн охарактеризовал артиста как «человека с кипучим темпераментом, одаренного природным комизмом, большой отзывчивостью и умением понимать искусство», отметил общественное значение его сатирических выступлений. Широко известна дружба Куприна с клоуном-прыгуном Жакомино. По свидетельству современников, писатель придумывал для выступлений своего друга, особенно в его бенефисы, антре и пантомимы. Он посвятил Жакомино небольшой рассказ «Марья Ивановна». В нем повествуется о комическом случае с обезьянкой клоуна, произошедшем в цирке Чинизелли. В последние годы своей жизни Куприн вспомнил Жакомино в рассказе «Соловей».
Дружески относился Куприн и к Виталию Ефремовичу Лазаренко. Во время бенефиса клоуна в 1919 году в бывшем цирке Никитиных он написал ему в альбом следующие строки: «Дорогой друг Лазаренко! Смейся, прыгай, остри, паясничай. Твой труд любит и чопорный партер и шумная галерка, а больше всего любят дети, и черт побери тех, кто твое искусство поставит ниже всякого другого, — оно вечное. А. Куприн».[19]
Александр Иванович неоднократно встречался с клоуном Танти Джеретти. Рассказанные артистом истории были позднее использованы писателем в произведениях «Дочь великого Барнума», «Ольга Сур», «Легче воздуха». В «Дочери великого Барнума» Куприн назвал Танти клоуном «для верхних балконов и градена, где ценят, любят и понимают смех».
Писатель восхищался мастерством талантливой наездницы Ольги Сур, дочери директора цирка В. Сура, прозванного артистами за крутой нрав «цирковым Бисмарком». О ней он написал в рассказах «Ольга Сур», «Легче воздуха» и «Дурной каламбур».
Давно уже нет на цирковых афишах фамилии этих артистов. Но благодаря Куприну они продолжают жить на страницах его произведений о дореволюционном цирке, с которым неразрывно было связано творчество известного русского писателя.
3.2 Отражение реальности цирковой жизни в рассказе А.И. Куприна «Allez!»
Рассказ «Allez!», написанный в 1897 году, относится к киевскому периоду творчества Александра Ивановича Куприна. В это время тема цирка доминировала в произведениях писателя. Рассказ озаглавлен французским словом «Allez!», что в переводе означает «Вперед!» - это известный цирковой возглас, сопровождающий опасные и эффектные трюки.
В нашем понимание цирк – это круглый зал, с манежем внутри, вокруг которого места для зрителей, здесь проходят различные зрелищные номера, в целом, поражающие воображение; в цирке большое жанровое своеобразие: клоуны, развлекающие публику; дрессировщики, удовлетворяющие потребность в экзотике; акробаты, приводящие зрителей в трепет. Но мы не особо уделяем внимание тому, что на самом деле испытывают артисты на арене, ведь нам важно лишь само шоу.
Куприн в своем рассказе «Allez!» показывает «изнанку» внешней легкости и красоты воздушной гимнастки – изнурительную работу через боль на цирковой арене. Сам цирк писатель представляет перед нами как: «холодные нетопленные арены», где приходится выступать артистам. Искусство верховой езды - союз человека и коня, сочетание их тел, то сливающихся в прыжке, то внезапно отрывающихся друг от друга. Оно всегда приковывало внимание зрителей. Александр Иванович в произведении описывает его так: «запах конюшни, тяжелый галоп лошади, сухое щелконье длинного бича и жгучая боль удара», «лошадь косится на хлыст,…, и тревожно храпит и, прядая, тащит за собой упирающегося конюха». Так же цирк Куприна в этом рассказе представляет собой: «ложи из малинового бархата с позолотой», «щиты с конскими головами», «флаги украшающие столбы», «сильно качающаяся трапеция», «клоун умеющий, ничего не евши со вчерашнего дня, смешить публику целый вечер неистощимыми шутками».
Главной героиней рассказа «Allez!» является юная сирота-циркачка шестнадцати лет по имени Нора, «она была очень хороша собой». Казалось бы, красивая воздушная гимнастка, которая удовлетворяет зрителей зрелищными трюками, на арене «она послушно сложила губы в привычную улыбку, улыбку «грациозной наездницы»». Куприн же показывает, что на самом деле испытывает, переживает, чувствует под маской «грациозной наездницы» юная циркачка. Все мы знаем крылатое выражение: «мы все родом из детства»[20], возглас «Allez!» у Норы ассоциирует с детством, которое характеризуется эпитетами «темное», «однообразное», «бродячее» - это средство выразительности помогает нарисовать беспросветное детство «крошечной пятилетней девочки». Вся ее жизнь – одна бесконечная дрессировка, жизнь, лишенная ярких красок и эмоций даже во время выступлений. А слово «Allez!» как будто разделяет жизнь Норы на кадры. Таким образом, в рассказе с линейной композицией организуется событийное время. «Allez!» начинает повествование о жизни главной героини, «Allez!» и заканчивает это повествование. И каждый раз оно символизирует изменения в ее жизни. Александр Иванович постоянно привлекает нас именно к тяжелым моментам жизни главной героини, используя отрицательную эмоционально-оценочную лексику. Если и встречается слово, несущее в себе положительные эмоции, то рядом с ним обязательно стоит лексема, снижающая эту характеристику, к примеру: «в короткой газовой юбчонке,…, на сильно качающейся трапеции», «коренастый мужчина в розовом трико,…, жестокий», «глупо красивые лица». «И везде всё тот же страх и тот неизбежный, роковой крик «Allez!», одинаковый для людей, для лошадей и для дрессированных собак» - подводит итог писатель под первыми кадрами жизни Норы. В следующем кадре жизни мы узнаем, что шестнадцатилетняя Нора «упала на песок манежа». Но никто не протянул ей руку помощи; не оказалось рядом человека, способного помочь, поддержать ее, когда она «закричала и зашаталась от невыносимого страдания», зато «десятки рук подхватили ее и насильно вытолкнули,…, к публике». Страшно жить, когда ты одинок, когда ты никому не нужен: по сути, публике не нужен актер, публике нужен номер и положительные эмоции от этого номера.
И в эту беспросветную серую жизнь одинокого человека врывается клоун Менотти, «всемирно известный», «всемирно знаменитый». Его «устало – влажные глаза», «звериная страсть», «жестокое приказание «Allez»» сделали своё дело. Могла ли Нора поступить по-другому? Позади неё беспросветная одинокая жизнь, а впереди жизнь с клоуном-знаменитостью. «И она пошла…» Появляется ещё один главный герой рассказа. Характеристика, данная ему писателем, настораживает нас: «сделал устало-влажные глаза» характеризует его как человека фальшивого, неискреннего, играющего роль, не зря он всемирно известный дрессировщик. А Нора впервые увидела человека, который «спросил о её здоровье», а для неё это равносильно заботе. Уже то, что на Нору кто-то впервые за шестнадцать лет обратил внимание не как на артистку, а как на человека, было для Норы, по её мнению, подарком судьбы. А кто бы так не посчитал, оказавшись в её положении? Нора впервые в своей жизни почувствовала себя счастливой! И дело не только в том, что «она ездила за ним», «стерегла брильянты», «надевала на него и снимала трико», «следила за его гардеробом», а ещё и в том, что Нора видела в нём «почти бога». И этот бог был рядом с ней. Из следующего кадра мы узнаём, что «через год» Нора надоела знаменитому артисту. Куприн – великий мастер слова. Несколькими мазками он нарисовал страшную картину: «ночью», «прямо сказал», «немедленно убиралась от него ко всем чертям», «она послушалась», «у двери остановилась и обернулась с умоляющим взглядом», «Менотти быстро подбежал к двери, бешеным толчком ноги распахнул её и закричал: «Allez!», которая поднимает в памяти серую безликую картину детства. Вот оно магическое действие слова «Allez»: после этого слова необходимо делать то, что приказано. Это как условный рефлекс у собаки Павлова на определённые раздражители, так и у Норы рефлекс на «Allez» - необходимо делать то, что приказано, ведь именно этому её учили с детства. На последнем кадре - развязка. Почему молодая здоровая женщина бросается из окна на мостовую? Что заставило сделать её этот роковой шаг? Конечно, Менотти виноват. Он приручил Нору. Но Менотти – дрессировщик. Поэтому Нору, «как побитую и выгнанную собаку, опять потянуло к хозяину». Однако её не ждали. С одной стороны, со стороны Менотти, «томный голос», «счастливый смех», «малиновые с золотом обои», «яркий свет канделябров», а с другой стороны – беспросветная жизнь, в которую никому не хочется возвращаться, в том числе и Норе. Она оказалась перед выбором. С самого детства она привыкла всё делать под «отрывистый, повелительный возглас «Allez», и рядом с Менотти она тоже всё делала под этот возглас. Вся её жизнь – это возглас «Allez». Другого пути она не знает. Так что же ей выбрать? Рядом с Менотти ей нет места, а на арену она не хочет. Ответ очевиден. И поэтому уже под свой возглас «Allez» она прыгает за окно. Всю жизнь Норой кто-то командовал, кто-то дрессировал её. Она не умела жить самостоятельно. В этом и была её трагедия. Да, «сделать жизнь значительно трудней». Жизнь, прожитая Норой, заставила её выпрыгнуть из окна.
Любовь и жизнь цирковой гимнастки… Трагедия.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
«...Всех нас в ранней юности цирк восхищал, волновал и радовал. Кто из нас избежал его чудесной, здоровой, крепящей магии? Кто из нас забыл этот яркий свет, этот приятный запах конюшни, духов, пудры и лайковых перчаток, этого шелка и атласа блестящих цирковых костюмов, щелканье бича, холеных, рослых, прекрасных лошадей, выпуклые мускулы артистов?.. И возвращались мы из цирка домой широкими и упругими шагами, круто выпятив грудь, напрягая все мускулы. Легкие бывали у нас расширены от беззаботного, громкого, доброго хохота, и как ловко мы перепрыгивали через лужи!»[21] Так писал А.И. Куприн, с детства хорошо знавший и любивший цирк, потому что у него было много друзей и знакомых артистов цирка. Он восхищался их ловкостью, смелостью, мужеством, силой, благородством и необыкновенно сильным чувством товарищества. Обо всем этом он написал в своих рассказах, посвященных цирку.
Тема любви занимает не последнее место в творчестве писателя. Произведения Куприна, посвященные любви, всегда увлекательны по сюжету, по своей драматической насыщенности. В них всегда высокое противостоит низкому, благородное — низменному, прекрасное — уродливому, постоянно звучат мотивы искренней, зачастую неразделенной любви, высокого трагедийного накала достигает столкновение добра и зла, духовной красоты и духовного уродства. К таким произведениям принадлежит рассказ «Allez!». Холодное и колючее слово «allez» вполне созвучно миру жестокости, подлости, равнодушия, в котором живет беззащитная Нора. В рассказе вся горькая судьба героини и ее смерть сопровождаются словом «allez», и это придает удивительную цельность произведению. Оно как бы заключено в рамки этого слова, выполняющего, таким образом, важную композиционную функцию.
Но тема любви в рассказе «Allez!» тесно переплетается с темой цирка. В данной работе она рассматривалась как ключевая.
Мы смогли доказать тесную связь между тематикой творчества Куприна и историческим процессом, свидетелем которого являлся писатель на рубеже веков. Убедились в том, что тема циркового искусства занимает важное место в творчестве писателя.
Мы смогли увидеть и описать, какими языковыми средствами показан писателем цирк, как видел его Куприн. Убедились в том, что автор непосредственно показывает читателю обратную сторону привычного действия.
А. И. Куприн один из тех писателей, который был близко знаком с таким видом искусства как цирк. Александр Иванович знал и общался со многими цирковыми артистами, их истории жизни не могли не повлиять на его литературную деятельность. Поэтому в произведении «Allez!» он так умело показал нам все то, что скрывается за зрелищными представлениями артистов.
ЛИТЕРАТУРА
1. Вадимов А. А. Репертуар иллюзиониста / А. А. Вадимов - М.: Издательский центр «Профиздат», 1967.
2. Волков А. А. А. И. Куприн / А. А. Волков – М.: Издательский центр «Знание», 1959.
3. Грушевицкая Т. Г. Словарь по мировой художественной культуре: Учеб. Пособие для студ. сред. и высш. пед. учеб. заведений / Т. Г. Грушевицкая, М.А. Гузик, А. П. Садохин; Под. ред. А. П. Садохина. – М.: Издательский центр «Академия», 2001. – 408 с.
4. Карташин А. Искусство удивлять / А. Карташин – М.: Издательский центр – «Профиздат», 1990.
5. Карташин А. Праздник с чудесами / А. Карташин – М.: Издательский центр «Просвещение», 1993.
6. Корецкая И. В. А. И. Куприн / И. В. Корецкая – М.: Издательский центр «Знание», 1970.
7. Лебедева А. Артисты цирка — герои книг А. И. Куприна / А. Лебедева, 1963.
8. Лилин В. А. И. Куприн. Пособие для учащихся / В. Лилин – М.: Издательский центр «Просвещение», 1975
9. Макаров С. М. Клоунада мирового цирка. История и репертуар/ С. М. Макаров – 2001.
10. Михайлов О. Вступительная статья к сочинениям в двух томах А.И. Куприна / О. Михайлов – М., Художественная литература, 1981.
11. Платонова Н. И. Энциклопедический словарь юного художника / Н. И. Платонова, В. Д. Синюков. – М.: «Педагогика», 1983. – 416 с., ил.
12. Родин И. О. Все произведения школьной программы в кратком содержании / И. О. Родин, Т. М. Пименова – 1997.
ПРИЛОЖЕНИЕ
Приложение 1
Текст рассказа А.И. Куприна «Allez!», с пометкой для группировки при анализе
Этот отрывистый, повелительный возглас был первым воспоминанием mademoiselle Норы из ее темного, однообразного, бродячего детства. Это слово раньше всех других слов выговорил ее слабый, младенческий язычок, и всегда, даже в сновидениях, вслед за этим криком вставали в памяти Норы: холод нетопленной арены цирка, запах конюшни, тяжелый галоп лошади, сухое щелканье длинного бича и жгучая боль удара, внезапно заглушающая минутное колебание страха.
- Allez!.. [Вперед, марш! (фр.)]
В пустом цирке темно и холодно. Кое-где, едва прорезавшись сквозь стеклянный купол, лучи зимнего солнца ложатся слабыми пятнами на малиновый бархат и позолоту лож, на щиты с конскими головами и на флаги, украшающие столбы; они играют на матовых стеклах электрических фонарей и скользят по стали турников и трапеций там, на страшной высоте, где перепутались машины и веревки. Глаз едва различает только первые ряды кресел, между тем как места за ложами и галерея совсем утонули во мраке.
Идет дневная работа. Пять или шесть артистов в шубах и шапках сидят в креслах первого ряда около входа в конюшни и курят вонючие сигары. Посреди манежа стоит коренастый, коротконогий мужчина с цилиндром на затылке и счерными усами, тщательно закрученными в ниточку. Он обвязывает длинную веревку вокруг пояса стоящей перед ним крошечной пятилетней девочки дрожащей от волнения и стужи. Громадная белая лошадь, которую конюх водит вдоль барьера, громко фыркает, мотая выгнутой шеей, и из ее ноздрей стремительно вылетают струи белого пара. Каждый раз, проходя мимо человека в цилиндре, лошадь косится на хлыст, торчащий у него из-под мышки, и тревожно храпит и, прядая, влечет за собою упирающегося конюха. Маленькая Нора слышит за своей спиной ее нервные движения и дрожит еще больше.
Две мощные руки обхватывают ее за талию и легко взбрасывают на спину лошади, на широкий кожаный матрац. Почти в тот же момент и стулья, и белые столбы, и тиковые занавески у входов - все сливается в один пестрый круг, быстро бегущий навстречу лошади. Напрасно руки замирают, судорожно вцепившись в жесткую волну гривы, а глаза плотно сжимаются, ослепленные бешеным мельканием мутного круга. Мужчина в цилиндре ходит внутри манежа, держит у головы лошади конец длинного бича и оглушительно щелкает им...
- Allez!..
А вот она, в короткой газовой юбочке, с обнаженными худыми, полудетскими руками, стоит в электрическом свете под самым куполом цирка на сильно качающейся трапеции. На той же трапеции, у ног девочки, висит вниз головою, уцепившись коленами за штангу, другой коренастый мужчина в розовом трико с золотыми блестками и бахромой, завитой, напомаженный и жестокий. Вот он поднял кверху опущенные руки, развел их, устремил в глаза Норы острый, прицеливающийся и гипнотизирующий взгляд акробата и... хлопнул в ладони. Нора делает быстрое движение вперед, чтобы ринуться вниз, прямо в эти сильные, безжалостные руки (о, с каким испугом вздохнут сейчас сотни зрителей!), но сердце вдруг холодеет и перестает биться от ужаса, и она только крепче стискивает тонкие веревки. Опущенные безжалостные руки подымаются опять, взгляд акробата становится еще напряженнее... Пространство внизу, под ногами, кажется бездной.
- Allez!..
Она балансирует, едва переводя дух, на самом верху "живой пирамиды" из шестерых людей. Она скользит, извиваясь гибким, как у змей, телом, между перекладинами длинной белой лестницы, которую внизу кто-то держит на голове. Она перевертывается в воздухе, взброшенная наверх сильными и страшными, как стальные пружины, ногами жонглера в "икарийских играх". Она идет высоко над землей по тонкой, дрожащей проволоке, невыносимо режущей ноги... И везде те же глупо красивые лица, напомаженные проборы, взбитые коки, закрученные усы, запах сигар и потного человеческого тела, и везде все тот же страх и тот же неизбежный, роковой крик, одинаковый для людей, для лошадей и для дрессированных собак:
- Allez!..
Ей только что минуло шестнадцать лет, и она была очень хороша собою, когда однажды во время представления она сорвалась с воздушного турника и, пролетев мимо сетки, упала на песок манежа. Ее тотчас же, бесчувственную, унесли за кулисы и там, по древнему обычаю цирков, стали изо всех сил трясти за плечи, чтобы привести в себя. Она очнулась и застонала от боли, которую ей причинила вывихнутая рука. "Публика волнуется и начинает расходиться, - говорили вокруг нее, - идите и покажитесь публике!.." Она послушно сложила губы в привычную улыбку, улыбку "грациозной наездницы", но, сделав два шага, закричала и зашаталась от невыносимого страдания.Тогда десятки рук подхватили ее и насильно вытолкнули за занавески входа,к публике.
- Allez!..
В этот сезон в цирке "работал" в качестве гастролера клоун Менотти, - не простой, дешевый бедняга-клоун, валяющийся по песку, получающий пощечины и умеющий, ничего не евши со вчерашнего дня, смешить публику целый вечер неистощимыми шутками, - а клоун-знаменитость, первый соло-клоун и подражатель в свете, всемирно известный дрессировщик, получивший почетные призы и так далее и так далее. Он носил на груди тяжелую цепь из золотых медалей, брал по двести рублей за выход, гордился тем, что вот уже пять лет не надевает других костюмов, кроме муаровых, неизбежно чувствовал себя после вечеров "разбитым" и с приподнятой горечью говорил про себя: "Да! Мы - шуты, мы должны смешить сытую публику!" На арене он фальшиво и претенциозно пел старые куплеты, или декламировал стихи своего сочинения, или продергивал думу и канализацию, что, в общем, производило на публику, привлеченную в цирк бесшабашной рекламой, впечатление напыщенного, скучного и неуместного кривлянья. В жизни же он имел вид томно-покровительственный и любил с таинственным, небрежным видом намекать на свои связи с необыкновенно красивыми, страшно богатыми, но совершенно наскучившими ему графинями.
Когда, излечившись от вывиха руки, Нора впервые показалась в цирк, на утреннюю репетицию, Менотти задержал, здороваясь, ее руку в своей, сделал устало-влажные глаза и расслабленным голосом спросил ее о здоровье. Она смутилась, покраснела и отняла свою руку. Этот момент решил ее участь.
Через неделю, провожая Нору с большого вечернего представления, Менотти попросил ее зайти с ним поужинать в ресторан той великолепной гостиницы, где всемирно знаменитый, первый соло-клоун всегда останавливался.
Отдельные кабинеты помещались в верхнем этаже, и, взойдя наверх, Нора на минуту остановилась - частью от усталости, частью от волнения и последней целомудренной нерешимости. Но Менотти крепко сжал ее локоть. В его голосе прозвучала звериная страсть и жестокое приказание бывшего акробата, когда он прошептал:
- Allez!..
И она пошла... Она видела в нем необычайное, верховное существо, почти бога... Она пошла бы в огонь, если бы ему вздумалось приказать.
В течение года она ездила за ним из города в город. Она стерегла брильянты и медали Менотти во время его выходов, надевала на него и снимала трико, следила за его гардеробом, помогала ему дрессировать крыс и свиней, растирала на его физиономии кольдкрем и - что всего важнее -верила с пылом идолопоклонника в его мировое величие. Когда они оставались одни, он не находил, о чем с ней говорить, и принимал ее страстные ласки с преувеличенно скучающим видом человека, пресыщенного, но милостиво позволяющего обожать себя.
Через год она ему надоела. Его расслабленный взор обратился на одну из сестер Вильсон, совершавших "воздушные полеты". Теперь он совершенно не стеснялся с Норой и нередко в уборной, перед глазами артистов и конюхов, колотил ее по щекам за непришитую пуговицу. Она переносила это с тем же смирением, с каким принимает побои от своего хозяина старая, умная и преданная собака.
Наконец однажды, ночью, после представления, на котором первый в свете дрессировщик был освистан за то, что чересчур сильно ударил хлыстом собаку, Менотти прямо сказал Норе, чтобы она немедленно убиралась от него ко всем чертям. Она послушалась, но у самой двери номера остановилась и обернулась назад с умоляющим взглядом. Тогда Менотти быстро подбежал к двери, бешеным толчком ноги распахнул ее и закричал:
- Allez!..
Но через два дня ее, как побитую и выгнанную собаку, опять потянуло к хозяину. У нее потемнело в глазах, когда лакей гостиницы с наглой усмешкой сказал ей: "К ним нельзя-с, они в кабинете, заняты с барышней-с".
Нора взошла наверх и безошибочно остановилась перед дверью того самого кабинета, где год тому назад она была с Менотти. Да, он был там: она узнала его томный голос переутомившейся знаменитости, изредка прерываемый счастливым смехом рыжей англичанки. Она быстро отворила дверь.
Малиновые с золотом обои, яркий свет двух канделябров, блеск хрусталя, гора фруктов и бутылки в серебряных вазах, Менотти, лежащий без сюртука на диване, и Вильсон с расстегнутым корсажем, запах духов, вина, сигары, пудры, - все это сначала ошеломило ее; потом она кинулась на Вильсон и несколько раз ударила ее кулаком в лицо. Та завизжала, и началась свалка...
Когда Менотти удалось с трудом растащить обеих женщин, Нора стремительно бросилась перед ним на колени и, осыпая поцелуями его сапоги, умоляла возвратиться к ней, Менотти с трудом оттолкнул ее от себя и, крепко сдавив ее за шею сильными пальцами, сказал:
- Если ты сейчас не уйдешь, дрянь, то я прикажу лакеям вытащить тебя отсюда!
Она встала, задыхаясь, и зашептала:
- А-а! В таком случае... в таком случае...
Взгляд ее упал на открытое окно. Быстро и легко, как привычная гимнастка, она очутилась на подоконнике и наклонилась вперед, держась руками за обе наружные рамы.
Глубоко внизу на мостовой грохотали экипажи, казавшиеся сверху маленькими и странными животными, тротуары блестели после дождя, и в лужах колебались отражения уличных фонарей.
Пальцы Норы похолодели, и сердце перестало биться от минутного ужаса...
Тогда, закрыв глаза и глубоко переведя дыхание, она подняла руки над головой и, поборов привычным усилием свою слабость, крикнула, точно в цирке:
- Allez!..
1897
Приложение 2
Жанры циркового искусства 19-20 веков
Глотание шпаг — устоявшееся название циркового трюка, известного ещё со времён Древней Индии (которая считается его родиной) и Античности (в частности, о нём упоминает Апулей в романе «Метаморфозы»), заключающегося в частичном или полном глотании (помещении через рот и пищевод в желудок) длинного острого предмета (как правило, меча) без каких-либо телесных повреждений.
Человек-ядро — появившийся в XIX веке и сохранившийся в некоторых местах до современности цирковой номер, когда специально разработанная «пушка» выстреливает человеком. «Человек-ядро» затем приземляется на горизонтальную сетку или надувной матрас, правильное размещение которых рассчитывается исходя из положений классической механики ещё до полёта. Если номер происходит на открытой арене, то «человек-ядро» также может приземляться в воду.
Эксцентрика (от лат. excentricus — вне центра; эксцентрический, эксцентричный) — 1) Жанр театрального, циркового, музыкального или эстрадного представления, построенный на использовании художественных эксцентрических приёмов; 2) В театре, цирке, кинематографе, на эстраде — художественный приём остро-комедийного и пародийного изображения действительности, основанный на «умышленном» нарушении логики и причинно-следственных связей в действиях или событиях, как бы причудливом смещении привычных понятий, а также использовании предметов в несвойственных им функциях — в результате чего обыденные, привычные действия и жизненные явления получают неожиданное переосмысление.
Слэклайн, также стропохождение или хождение по слабо натянутой стропе (англ. slackline - перевод slack: "провисающий, слабый"; line: "линия") — практика в балансировании и развивающийся вид спорта, которая заключается в хождении по специальным нейлоновым или полиэстровым стропам (лентам), натянутым между стационарными объектами — станциями.
Иллюзионист (фокусник, факир) — артист, демонстрирующий фокусы, основанные на тех или иных физических и психологических явлениях и подсознательных заблуждениях, в отличие от фокусника-манипулятора, эффект фокусов которого основан исключительно на ловких действиях руками.
Манипуляция (от фр. le main — рука; в цирке может применяться синоним престидижита́ция от фр. preste — быстрые и лат. digitus — палец) — разновидность иллюзионного жанра, которая противопоставляется иллюзии. Если в иллюзии эффект достигается за счёт специальной хитроумной аппаратуры, то в манипуляции — за счёт ловкости рук.
Клоун (от англ. clown), в современном значении термина — цирковой, эстрадный или театральный артист, использующий приемы гротеска и буффонады.
Комик (от нем. Komiker, Komikus, в свою очередь от лат. cōmicus, от др.-греч. Κωμικός, также комедиант) — амплуа, а также актёр, исполняющий комические роли.
[1] А. И. Куприн. Пособие для учащихся / В. Лилин – М.: Издательский центр «Просвещение», 1975
[2] А. И. Куприн / А. А. Волков – М.: Издательский центр «Знание», 1959.
[3] А. И. Куприн. Пособие для учащихся / В. Лилин – М.: Издательский центр «Просвещение», 1975
[4] Борьба на поясах (англ. belt wrestling) — древний вид борьбы, заключающийся в единоборстве двух подпоясанных борцов.
[5] Борьба греко-римская (классическая борьба), вид спортивной борьбы с применением приемов, основанных на действии рук и туловища (без захватов ниже пояса, подножек, подсечек и дp.).
[6] Чичероне (итал. cicerone от лат. Cicero - Цицерон). Проводник, дающий объяснения туристам при осмотре достопримечательностей
[7] Биплан — самолёт с двумя несущими поверхностями (крыльями), как правило, расположенными одна над другой.
[8] Жонглирование — вид циркового искусства. Одновременное умелое манипулирование несколькими объектами, такими как шары, пои, палки, булавы.
[9] Жонглёр - цирковой артист, подбрасывающий и ловящий одновременно несколько предметов.
[10] Дед-зазывала - человек заводивший разговор с толпой, усердно расхвалившие программу, сыпавший шутками и прибаутками.
[11] Петрушка – зазывающий на выступление.
[12] Вербный базар проходит перед Пасхой.
[13] Фокус или иллюзия — номер иллюзиониста, демонстрирующий необъяснимый эффект, «чудо».
[14] Энциклопедический словарь юного художника / Н. И. Платонова, В. Д. Синюков. – М.: «Педагогика», 1983. – 416 с., ил.
[15] Фокусник - человек, умеющий показывать фокусы (трюки, основанные на хитрости, проворстве и ловкости); тот, кто профессионально демонстрирует фокусы.
[16] Акробат - Цирковой артист, занимающийся акробатикой
[17] Circus Maximus - лат. «Большой цирк»
[18] Шапито - разборная конструкция из мачт и натягиваемого на них полотна (парусины, брезента) шатра.
[19] Артисты цирка — герои книг А. И. Куприна/А. Лебедева, 1963
[20] Антуан Де Сент Экзюпери «Маленький принц»
[21] В. А. И. Куприн / И. В. Корецкая – М.: Издательский центр «Знание», 1970.






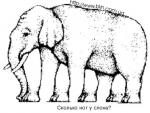







 (zip - application/zip)
(zip - application/zip)










