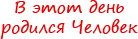Правительство Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Национальный исследовательский университет
“Высшая школа экономики”»
Факультет философии
Образ идеального политика в пройзведениях Плутарха и Светония.
Реферат студента 1 курса бакалавриата группы №153
по истории
Москва 2015
Оглавление
Введение…………………………………………………………………………………………...
Тит………………………………………………………………………………………………….
Филопемен…………………………………………………………………………………………
Отон………………………………………………………………………………………………...
Общий анализ правителей………………………………………………………………………...
Заключение…………………………………………………………………………………………
Список литературы………………………………………………………………………………..
Введение
Работа посвящена теме образа идеального правителя в книгах Плутарха и Светония. Конкретно нас интересует вопрос, какими именно критериями должен обладать правитель.
Данный анализ проведен на основе произведения «Культурный переворот в Древней Греци VIII-V вв. до н.э.» А.И. Зайцева (1926-200), филолога и доктора исторических наук. Данная работа была создана 1985 году, что объясняет трудности публикации и научной огласки в силу специфики внутренней политики СССР. Но в 2001 году книга была исправлена и переиздана Л. Я. Жмудем под издательством Филологического факультета СПбГУ, получив новую жизнь и всемирную известность. Работа содержит современную версию объяснения древнегреческого феномена: широкий анализ социокультурных, экономических и политических предпосылок. Однако в рамках работы мы немного отдалились от первоначального источника, так как нужная информация находится также в комментариях Л. Я. Жмудя к данной книге и некоторых статьях А.И. Зайцева о феномене «греческого чуда».
«Греческое чудо» – звено в цепочке аналогичных социокультурных сдвигов. Безусловно, раскрыть его секрет пытались многие: А. Вебер, К. Ясперс, Э. Ренан, А Боннар и др. Ссылались на национальный характер, антропологический фактор, расовое смешение, влияние Запада и Востока, благоприятный климат, на общую доступность к наукам, исторический фактор. Однако никто не выдвигал модель экономического детерминизма (диффузия железодобычи) и особого психологического фактора (состязательного характера), которые предложил А.И. Зайцев.
Данный реферат представляет кратко содержание основных мыслей А.И. Зайцева о греческом культурном перевороте с некоторыми отсылками на предшествующие исследованию работы.
Источник поможет нам проанализировать предшествующие подходы изучения культурного переворота и выявить схожесть их общих черт.
Цель реферирования: кратко показать основную концепцию культурного переворота в Древней Греции VIII-V вв. до н.э., которую представил в своей книге А.И. Зайцев.
Задачи: выявить основные мысли автора, касающиеся
- Исторических предпосылок к культурному перевороту
- Роли агона в спорте, литературе, художественном и интеллектуальном творчестве
- Формировании науки
А также, подвести общий итог, показывающий основные предпосылки к возникновению феномена, по мнению А.И. Зайцева.
Божественный Тит.
Светоний
Тит, имевший то же прозвище, что и отец, нареченный также «любовь и отрада рода человеческого», — столько было у него врожденного дара или ловкости или счастья для приобретения себе всеобщего расположения, притом, что в особенности трудно, уже на посту императора, тогда как частным лицом и в правление отца он не избежал даже ненависти, не только что порицания общества.
Уже в отроке Тите, проявились блестящие дарования, телесные и душевные, все более развивавшиеся на каждой новой возрастной ступени: прекрасная внешность, в которой было не меньше внушительности, чем грации; большая физическая сила, невзирая на невысокий рост и несколько выдающийся живот; исключительная память и восприимчивость ко всем почти гражданским и военным искусствам. Он был весьма ловок в фехтовании и верховой езде; языками, латинским и греческим, владел свободно и легко как в речи, так и в поэтических опытах, причем мог говорить и писать экспромтом; но и в музыке не был он профаном и умел играть и петь приятно и искусно.
Военным трибуном он служил в Германии и Британнии, причем весьма прославился как своей энергией, так не менее и своим бескорыстием; об этом свидетельствует множество его статуй и бюстов, а также надписей в обеих этих провинциях.
После военной службы он посвятил себя деятельности адвоката, в которой отличался не столько усердием, сколько безусловной порядочностью;
Когда во главе республики стал Гальба, он был послан для принесения ему поздравлений и по всему пути привлекал к себе общее внимание, ибо думали, что он призван в Рим для усыновления его принцепсом. Узнав, что в Риме снова начались непорядки, он с дороги вернулся назад и посетил оракул Венеры на Пафосе, причем, вопросив его о своем дальнейшем плавании, получил ответ, укрепивший его надежду на достижение власти.
Надежда эта вскоре превратилась в действительность3, и он был оставлен для завершения покорения Иудеи. При последнем штурме Иерусалима он убил двенадцать неприятельских солдат двенадцатью пущенными в них стрелами и взял город в день рождения своей дочери. В солдатах это возбудило такое ликование и любовь к нему, что, поздравляя его, они провозгласили его императором4, а когда вслед за тем он должен был покинуть провинцию, они стали не пускать его и с мольбами и даже угрозами просили либо остаться, либо всех их взять с собою. Это дало повод к подозрению, будто он пытался отложиться от отца и сделаться царем Востока; это подозрение усилилось, когда на пути в Александрию он, при посвящении у Мемфиса быка Аписа, надел на голову диадему, правда, согласно обряду древней религии; однако были и такие, которые объясняли это иначе. Поэтому он поспешил в Италию; пристав на грузовом корабле в Регии, а затем в Путеолах, он со всей поспешностью направился в Рим и, словно опровергая распространившиеся о нем беспочвенные слухи, приветствовал не ожидавшего его отца словами: «Вот и я, отец, вот и я».
С этих пор он постоянно оставался соправителем Веспасиана и даже стражем его власти. Вместе с отцом он праздновал триумф и был с ним цензором, а также его коллегой в трибунской власти и семи консульствах. Он взял на себя почти все правительственные обязанности: от имени отца диктовал письма, составлял эдикты, вместо квестора читал в сенате его речи, даже занял должность префекта претория, на которую до тех пор назначались исключительно римские всадники, причем в этой должности действовал часто слишком деспотично и насильственно. Так, он без колебания устранял казавшихся ему подозрительными лиц, для чего предварительно подсылал в театры и лагери своих клевретов, которые инсценировали видимость общего мнения, требующего их наказания. Между прочим, он приказал убить на месте бывшего консула Авла Цецину, когда последний, приглашенный к обеду, только что вышел из столовой; правда, здесь дело не терпело отлагательств, ибо при нем была найдена рукопись речи, приготовленной для произнесения на сходке солдат. Такими приемами он, правда, обеспечивал свою безопасность на будущее время, но пока что вызвал к себе чрезвычайную ненависть; и еще никто не приходил к власти с такой отрицательной репутацией, как Тит, и среди столь всеобщего нежелания видеть его принцепсом.
7. Помимо жестокости, находили, что он слишком любил пожить, так как его пиры с друзьями, первейшими кутилами, затягивались до глубокой ночи; не менее того подозревали его в сладострастии по причине содержимой им толпы мальчиков и евнухов и необычайной его любви к царице Беренике, на которой он, как говорили, обещал даже жениться; подозревали, наконец, его в алчности, ибо, как было известно, при судебных разбирательствах отца он обычно продавал приговоры за деньги. Словом, все, не скрывая, думали и говорили, что он будет вторым Нероном. Однако такая репутация послужила ему на пользу и сменилась впоследствии величайшими похвалами, ибо в нем не находили уже ни одного порока, а, напротив, величайшие добродетели.
Его пиры отличались более весельем, чем роскошью. Друзей он выбирал себе таких, что и последующие принцепсы дорожили ими, как людьми полезными для себя и для государства, и весьма много пользовались их услугами. Он тотчас удалил Беренику из Рима, вопреки собственному своему и ее желанию. Хотя некоторые из наиболее ему любезных мальчиков достигли в искусстве танца такого совершенства, что стали сценическими знаменитостями, он перестал не только осыпать их своими милостями, но и смотреть их выступления в общественных местах.
Ни у кого он ничего не отнял; от чужой собственности он воздерживался, как никто другой, и не принимал даже дозволенных обычаем подарков. Тем не менее, щедростью он не уступал никому из своих предшественников; при посвящении амфитеатра5, возле которого он в короткий срок построил бани, он дал блестящие и богато обставленные игры; он дал также морское сражение в старой навмахии и там же еще гладиаторский бой и травлю зверей, которых в один день было убито пять тысяч штук разного рода.
8. Между тем как по заведенному Тиберием правилу все Цезари утверждали пожалованные своими предшественниками милости только собственным новым пожалованием их тем же лицам, Тит, благожелательный по природе, все прежние милости утвердил сразу одним эдиктом, не допустив, чтобы по этому поводу к нему обращались с особыми просьбами. В остальном же, когда люди просили его о чем-либо, он твердо держался правила никого не отпускать не обнадеженным. А когда близкие указывали ему, что он обещает больше, чем может дать, он отвечал, что «считает недопустимым, чтобы кто-либо уходил после разговора с принцепсом опечаленным». Более того: когда однажды за обедом он вспомнил, что за весь день никому не сделал ничего хорошего, то произнес такие незабываемые и справедливо восхваляемые слова: «Друзья, я потерял день».
В особенности же был он при всяком случае предупредителен по отношению к народной массе; предполагая дать гладиаторский бой, он объявил, что «устроит его, сообразуясь со вкусом и желанием народа, а не своим собственным». Так он и сделал. Ибо он не только никому ни в чем не отказывал, но сам поощрял людей просить себя о чем угодно. Афишируя свое пристрастие к фракийским бойцам, он часто вступал из-за них с народом в шутливые пререкания словами и жестами, отнюдь не роняя при этом ни своего достоинства, ни беспристрастия. Не желая упустить ни одного случая приобрести популярность, он, моясь в своих банях, иногда допускал туда народ.
В его правление случилось несколько стихийных бедствий: таковы извержение Везувия в Кампании, пожар в Риме, длившийся три дня и три ночи, а также почти беспримерная по силе моровая язва. В этих столь многочисленных и столь значительных несчастиях он обнаружил не только заботливость правителя, но и редкое, чисто отеческое участие: он то утешал в эдиктах пострадавших, то оказывал им поддержку, насколько хватало его средств. Из числа бывших консулов он по жребию выбрал комиссию по восстановлению Кампании. Имущество погибших при извержении Везувия, у которых не оказывалось наследников, он предоставил на дело восстановления потерпевших общин. После пожара Рима он всенародно объявил, что все причиненные огнем убытки берет на себя, и все украшения из своих загородных дворцов предоставил на постройку зданий и храмов и для скорейшего ее выполнения назначил во главе дела множество лиц всаднического сословия. Для ухода за здоровьем и облегчения болезней он привлекал все божеские и человеческие средства, причем испробовал все виды жертвоприношений и лекарств.
К числу бедствий этого времени принадлежали также доносчики и их подстрекатели — наследие былой разнузданности. Этих людей он часто подвергал наказанию плетьми и палками на форуме и, в конце концов, приказал, проведя с позором по арене амфитеатра, либо продать с публичного торга, либо сослать на самые дикие острова. А чтобы навсегда пресечь подобные попытки в будущем, он, между прочим, запретил одно дело подводить под действие нескольких законов и расследовать о состоянии какого-либо покойника спустя известное число лет.
9. Он обещал, что принимает сан великого понтифика только для того, чтобы сохранить свои руки чистыми от убийств6, и сдержал это обещание; после этого он не был ни виновником, ни соучастником какого-либо убийства, хотя у него и не имелось недостатка в причинах для мести; однако он поклялся, что «скорее сам погибнет, чем кого-либо погубит». Когда два патриция были уличены в стремлении к императорской власти, он ограничился тем, что убеждал их оставить свои намерения, и старался внушить им, что «власть принцепса посылается судьбою»; при этом он обещал удовлетворить всякое другое их желание. Сверх того, он немедленно отправил своих курьеров к матери одного из них, находившейся далеко и обретавшейся в страхе, чтобы известить ее, что сын ее цел и невредим; обоих уличенных он не только пригласил к своему домашнему столу, но на следующий день, во время гладиаторского боя, нарочно посадил рядом с собою и сам передал им для осмотра принесенное ему оружие бойцов. Говорят, что он осведомился также о расположении звезд в час рождения каждого из них и заявил, что «обоим угрожает опасность, однако лишь в будущем и не от него», что впоследствии и сбылось.
Его брат не переставал строить против него козни и почти открыто возмущал солдат и замышлял бегство; тем не менее, он не соглашался ни убить его, ни отправить в ссылку, ни даже держать его в меньшем почете, но с первого же дня своего правления не переставал доказывать ему, что видит в нем своего соправителя и наследника, и наедине часто со слезами умолял его «проявить, наконец, к нему, Титу, братское отношение».
10. Между тем, его внезапно похитила смерть — великое несчастие не для него, а для всех людей. По окончании зрелищ, в конце которых он на глазах народа проливал обильные слезы, он отправился в Сабину, полный печали, ибо во время жертвоприношения жертвенное животное вырвалось у него из рук, а при ясном небе раздался гром. На первой же остановке он заболел лихорадкой; когда оттуда его переносили в носилках, он взглянул через занавески на небо и горько пожаловался на то, что «судьба совершенно незаслуженно отнимает у него жизнь: ибо он не знает за собою поступков, в которых ему приходилось бы раскаиваться, за исключением лишь одного». Но что это был за поступок — он и сам не сказал в то время, ни другой кто мог бы догадаться. Некоторые думают, что он имел в виду свою связь с женою брата. Однако Домиция с клятвой торжественно отрицала какую-либо связь, чего она не сделала бы, если бы таковая существовала в действительности; скорее она хвалилась бы ею, как имела обыкновение хвастаться всяким своим распутством.
11. Тит скончался на той же вилле, что и его отец, 13 сентября7, через два года, два месяца и двадцать дней по принятии власти после отца, на сорок втором году от рождения. Когда о смерти его стало известно, то печаль об этой утрате, понесенной государством, ощущалась всеми так сильно, словно это было личное семейное горе каждого. Еще до официального созыва сенаторы сбежались в курию и нашли двери запертыми; после их открытия они осыпали его столькими выражениями благодарности и хвалами, сколько не приносили ему при жизни в его присутствии.
Оттон
Светоний
С ранней юности был он такой мот и такой сорванец, что часто получал от отца в наказание розги. Рассказывали, что он имел привычку шататься по ночам, причем хватал попадавшего ему навстречу слабосильного или пьяного и, повалив его на распростертый плащ, приказывал подбрасывать на воздух. После смерти отца он принялся за некую вольноотпущенницу, бывшую в милости при дворе, и, чтобы обработать ее по-настоящему, прикинулся даже влюбленным, хотя она была женщина в летах и далеко не первой свежести. Через нее-то втерся он в милость к Нерону и без труда занял первое место среди его друзей по причине сходства характеров, как говорят иные, а также по причине интимной близости во взаимном разврате. И стал он настолько могущ, что однажды, обусловив себе огромную награду от одного бывшего консула, осужденного за лихоимство, он без колебаний привел его в сенат благодарить за реабилитацию, еще даже не выхлопотав ее вполне.
3. Будучи соучастником всех планов и тайн Нерона, в день, назначенный последним для убийства своей матери, он, с целью отвлечь подозрение, дал в честь обоих обед, проведенный в тоне самой изысканной непринужденности.
Будучи соучастником всех планов и тайн Нерона, в день, назначенный последним для убийства своей матери, он, с целью отвлечь подозрение, дал в честь обоих обед, проведенный в тоне самой изысканной непринужденности. Равным образом, когда Поппея Сабина, пока еще только любовница Нерона, была взята у ее мужа и временно вверена Отону, он принял ее к себе под видом супружества. Ему мало было соблазнить ее, — он влюбился в нее так сильно, что не мог спокойно переносить соперничества Нерона. По крайней мере передают, будто он не только не принял присланных к нему за Поппеей лиц, но однажды не пустил к себе самого Нерона, который остался стоять у дверей и тщетно обращался к нему то с угрозами, то с мольбами, требуя обратно вверенный ему вклад. В результате брак был все же расторгнут, и Отон под видом служебного назначения был сослан в Лузитанию. Своей провинцией Отон управлял десять лет, имея только квесторский ранг; он проявил при этом исключительную умеренность и бескорыстие.
4. Когда, наконец, представился случай к отмщению, он первый присоединился к начинанию Гальбы; тогда же он и сам возымел надежду достигнуть императорской власти, чему повод в сильной степени подавало общее положение дел. С этих пор Отон пустил в ход все виды одолжений и заискиваний, лишь бы привлечь к себе кого только возможно: так, всякий раз, когда он принимал у себя принцепса к обеду, каждому солдату несшей караул когорты он дарил по золотому; он и вообще старался обязать себе солдат, одного — тем, другого — другим. Будучи приглашен посредником в тяжбе солдата с его соседом об участке границы, он купил у последнего, все поле и отдал его в собственность солдату. В результате едва ли не все поголовно были убеждены и открыто заявляли, что один лишь Отон достоин наследовать императорскую власть.
5. С своей стороны, он питал надежду, что Гальба усыновит его, и ожидал этого со дня на день. Однако эта надежда рухнула: ему был предпочтен Пизон. Тогда он решил прибегнуть к силе; помимо чувства обиды, его побуждала к этому огромная сумма долгов. Отон открыто признавался, что «если ему не удастся стать принцепсом, его песенка спета, ибо все равно — падет ли он в битве с врагами или на форуме, жертвой своих кредиторов». Лишь за несколько дней до своего выступления ему удалось вынудить у одного цезарева раба миллион сестерциев, следуемые ему, Отону, в уплату за доставленное им место управляющего. С такими-то ресурсами было приступлено к выполнению грандиозного замысла. На первых порах в заговор были посвящены пять телохранителей, затем еще десять; эти последние были по двое привлечены каждым из первой пятерки; всем им было тут же выплачено по десять тысяч сестерциев и, сверх того, по пятидесяти тысяч было обещано в будущем. Они привлекли еще других, но в небольшом числе, ибо не было сомнения, что едва дело начнется, как к нему присоединятся многие.
6.
Наконец назначенный день настал. Отон предупредил своих соумышленников, чтобы они дожидались его на форуме. Отону во время церемонии подали знак и он покинул дворец под предлогом осмотра дома, который ему предлагали в продажу. По словам других, Отон притворился больным лихорадкой и просил близстоящих на приеме извинить его болезнью, если бы о нем спросили. Затем, сев в закрытые дамские носилки, он с величайшей поспешностью направился в преторианский лагерь. Носильщики выбились из сил; он выскочил и пустился бегом, но один башмак у него развязался, и он остановился; тогда, не медля более, его подняли на плечи, и тут же спутники провозгласили его императором. Среди кликов и пожеланий, среди обнаженных мечей Отон достиг главной площади лагеря. Отсюда Отон отправил клевретов с приказанием убить Гальбу и Пизона. Затем на сходке солдат, желая обещаниями привлечь их сердца, он обязался перед ними только в одном: «своим он будет считать лишь то, что солдаты сами предоставят ему».
7. Сверх прочих проявлений лести со стороны поздравителей и угодников, городская чернь дала ему имя Нерона. Кроме того, первым государственным актом, им подписанным, была ассигновка в пятьдесят миллионов сестерциев на окончание Золотого дома.
8. Германская армия уже присягнула Вителлию. Как только Отон узнал об этом, он побудил сенат отправить делегацию с целью оповестить армию о состоявшемся уже избрании принцепса и призвать ее к порядку и согласию; сам же он тем временем через доверенных лиц и в письмах предлагал Вителлию сделаться его соправителем и зятем. Становилось, однако, ясно, что воины не избежать. В это время одно происшествие, жертвой которого едва не сделалось все высшее сословие государства, на опыте показало Отону преданность ему преторианцев.
Поход Отон начал энергично и даже слишком поспешно, с пренебрежением религиозных обычаев. Сверх того, ауспиции оказались неблагоприятные.
9. Ту же опрометчивость проявил он и дальше. Хотя всякому было ясно, что войну следовало затягивать, ибо неприятель испытывал голод и был стеснен в горных проходах, он решил как можно скорее довести дело до генерального сражения; Сам он не участвовал ни в одной из них, но сидел в тылу в Брикселле9.
Правда, в первых трех битвах, впрочем незначительных, победа осталась за ним; зато в последней и важнейшей битве он был побежден обманом: внезапное нападение врага при праздновании победы.
Немедленно же Отон решил покончить с собою. Причину этого многие не без резона видят в том, что он скорее совестился добиваться власти во что бы то ни стало с таким риском для государства и населения, нежели впал в отчаяние или утратил доверие к войскам: ведь и теперь еще у него оставались свежие отряды, удержанные им при себе в резерве, а сверх того шли еще другие из Далмации, Паннонии и Мезии, да и побежденное войско не настолько пало духом, чтобы не отважиться еще раз на какую угодно опасность без посторонней помощи, лишь бы отмстить за свой позор.
10. Отон, еще будучи частным лицом, питал такое отвращение к гражданским междоусобиям, он никогда не затеял бы борьбы с Гальбой, если бы не был убежден, что ему удастся достигнуть цели без войны.
Своему брату и его сыну, а также каждому из своих друзей особо он дал совет позаботиться о себе, как кто может; затем, обнявшись со всеми, он отпустил их. Затем он сжег всю корреспонденцию, которую имел при себе, дабы не подвергнуть кого-либо опасности или не причинить кому-либо вреда в суждении победителя. Свои наличные деньги он роздал слугам.
11. Он скончался на тридцать восьмом году жизни, в девяносто пятый день своего правления.
12. Многие из бывших здесь солдат, горько рыдая, покрывали поцелуями руки и ноги покойника, называли его храбрейшим мужем, единственным императором и тут же близ костра налагали на себя руки; также и многие из отсутствовавших, получив известие о его кончине, в припадке скорби устраивали между собою поединки насмерть. Наконец, множество людей, жестоко ненавидевших его при жизни, стали превозносить его похвалами после смерти, так что пошла даже молва, будто он погубил Гальбу не столько для захвата власти, сколько ради восстановления республики и свободы.
Плутарх
На рассвете новый император поднялся на Капитолий и принес жертву. Присутствующие восхищались и императором и его пленником, довольны были и солдаты. В сенате Отон произнес длинную речь, очень благожелательную и дружелюбную. Людей, достигших преклонного возраста, либо пользовавшихся добрым именем, он наградил жреческими должностями. Всем сенаторам, которые при Нероне отправились в изгнание, а при Гальбе вернулись, он возвратил имущество — ту его часть, что оставалась непроданной и была разыскана. И этот словно бы улыбающийся лик нового правителя ободрил первых и самых видных граждан, сперва дрожавших от ужаса.
2. Ничто, однако ж, не доставило большей радости всем римлянам, ничто не привязало их к Отону сильнее, нежели расправа над Тигеллином. Народу тяжко было вспоминать, что все еще видит солнце тот, кто навеки погасил его свет для стольких лучших людей Рима. Отон отправил своих солдат в имение Тигеллина. Тигеллин пытался подкупить императорского посланца, предлагая ему громадные деньги, но безуспешно, и тогда, все-таки одарив его, просил подождать, пока он побреется. Взяв бритву он перерезал себе горло.
3. Доставив народу эту самую справедливую радость, Цезарь на собственных врагов зла не помнил совсем.
Таково было начало этого правления, но наемники уже не давали Отону покоя, настаивая, чтобы он остерегался значительных граждан и умерил их силу, — то ли они действительно были преданы императору и боялись за него, то ли искали предлога разжечь беспорядки и войну.
(защита населения Отона) На другой день, назначив каждому в награду по тысяче двести пятьдесят драхм, он отправился в лагерь и сперва хвалил всех вместе за преданность и верность, но потом сказал, что иные — немногие — со злым умыслом мутят войско, выставляя в ложном свете доброту императора и преданность ему воинов, просил разделить его негодование и помочь наказать смутьянов. Речь его была встречена дружным одобрением, все кричали, чтобы он поступал так, как находит нужным.
4. Тех, кто одобрял действия Отона и верил ему, эта перемена восхищала, но другие считали все происшедшее вынужденным шагом, навязанным обстоятельствами, ибо дело шло к войне и приходилось угождать народу: поступали вполне надежные известия, что Вителлий принял императорскую власть и достоинство, и беспрерывно прибывали гонцы с сообщениями о все новых областях, которые к нему присоединялись.
(Переговоры)…засвидетельствовать свою благосклонность к Веспасиану!
Сам император остался в италийском городе Бриксилле близ реки Эридан, а во главе войска выслал Мария Цельса и Светония Паулина вместе с Галлом и Спуриною. Все это были люди прославленные, знаменитые, но руководить военными действиями по собственному разумению они не могли из-за распущенности и наглости солдат, которые не желали повиноваться никому, кроме императора, ссылаясь на то, что от них получил император свою власть. Впрочем, и неприятельское войско страдало тем же недугом и смирным нравом отнюдь не отличалось, но было безрассудно и чванливо — и по той же самой причине. Все же воины Вителлия обладали опытом боев и сражений и не старались увернуться от тяжелого труда, к которому давно привыкли, тогда как люди Отона были развращены безделием и изнежены мирной жизнью, проходившею главным образом в театрах и на празднествах, но бессилие свое хотели скрыть за похвальбой и высокомерием и, отказываясь исполнять свои обязанности — которые просто не могли нести, — делали вид, что это, дескать, слишком черное для них занятие. Когда же Спурина попытался заставить их подчиняться приказам, его едва не убили. Не было такой грязной брани, которой бы на него не обрушили; его называли предателем и погубителем счастья и дела Цезаря, а уже ночью несколько пьяных негодяев пришли к его палатке и требовали денег на дорогу: они, мол, должны ехать к Цезарю, чтобы безотлагательно принести жалобу на него, Спурину.
8. Отон прибыл в лагерь при Бедриаке (это маленький городок близ Кремоны) и стал держать военный совет. По мнению Прокула и Титиана, следовало дать решительное сражение, пока войско полно бодрости после недавней победы, а не сидеть сложа руки, притупляя острие своей силы, и не ждать, пока Вителлий явится из Галлии собственной особой. Паулин заявил, что у врагов собрано для битвы все, что только возможно, тогда как Отон ждет из Мёзии и Паннонии еще одно войско, не меньше того, что уже есть, и непременно дождется его, если хочет использовать собственные преимущества и не давать никаких преимуществ врагам. Ко всем этим доводам своих военачальников Отон, однако ж, остался глух, и верх взяли те, кто торопил императора со сражением.
9. Очевидно, что так называемые преторские солдаты лучше узнали подлинный вкус военной службы и неудержимо рвались в битву, ибо рассчитывали с первого же удара разметать и истребить врага. По-видимому, и сам Отон не мог дольше терпеть неопределенности положения, не мог, по изнеженности своей, переносить непривычные для него мысли об опасности. Но другие сообщают, что оба войска неоднократно хотели сойтись для переговоров и, если удастся достигнуть согласия, избрать императором самого достойного из присутствующих полководцев, если же не удастся, — созвать сенат и право выбора предоставить ему. И так как ни один из двоих, носивших тогда имя императора, доброю славой не отличался, то вполне вероятно, что истинным воинам, закаленным в боях и трезво мыслящим. Отон, а потому и отверг всякую отсрочку.
10. Сам он возвратился в Бриксилл, и это было ошибкою не только потому, что император отнял у солдат честолюбие и стыд, которые внушало им его присутствие, но и потому, что, уведя с собою в качестве личной охраны самую лучшую и самую преданную ему часть конницы и пехоты, он как бы лишил войско главной его силы.
12. Солдаты Отона были и храбры, и крепки телом, но лишь впервые пробовали свои способности в войне; воины Вителлия были закалены во многих битвах, но уже стары и недостаточно сильны. Натиск «заступников» отбросил врага назад, они захватили орла и уничтожили почти всех бойцов в первых рядах. Тогда «хищники», вне себя от стыда и от гнева, в свою очередь ринулись вперед, убили начальника легиона и взяли много знамен.
Но самым постыдным, самым безобразным было поведение преторских солдат, которые так и не посмели сойтись с врагом грудь на грудь; мало того, спасаясь бегством, они прокладывали себе дорогу сквозь ряды, еще не тронутые поражением, и расстраивали их, заражая своим страхом. Тем не менее многие из воинов Отона, одолевая всех подряд, кто бы ни вставал у них на пути, сквозь гущу неприятелей, уже торжествовавших победу, прорвались к себе в лагерь.
13. Что же до полководцев, то ни Прокул, ни Паулин не посмели войти в лагерь вместе с прочими, но оба скрылись — в страхе перед солдатами, всю вину за поражение уже возлагавшими на своих командующих. Тех, кто благополучно выбрался с поля битвы, укрыл в городе Анний Галл, который пытался успокоить их и ободрить, уверяя, что исход дела остался неясен, ибо во многих местах они взяли верх над противником. Но Марий Цельс собрал начальников и просил их подумать об общем благе. После такой страшной беды, говорил Цельс, после избиения стольких граждан сам Отон, если только он человек достойный, не захотел бы снова испытывать судьбу. Даже Катона и Сципиона, не пожелавших подчиниться Цезарю после его победы при Фарсале, укоряют в том, что они понапрасну сгубили в Африке много храбрых воинов, — а ведь оба боролись за свободу римлян!
Речь Цельса оказала свое действие.
Но тем временем Титиан успел раскаяться в своем решении отправить послов; самых храбрых солдат он снова расставил на стенах, а остальных призывал помочь защитникам города. Когда, однако же, верхом на коне приблизился Цецина и протянул дружелюбно правую руку, сопротивления не оказал никто, и одни приветствовали его людей со стены, а другие распахнули ворота, выбежали наружу и смешались с недавним противником. Никто не обнаруживал ни малейшей враждебности, напротив, повсюду звучали изъявления радости и слова привета, а затем все объявили себя сторонниками Вителлия и принесли ему присягу.
14. Так рассказывают об этом сражении почти все, кто в нем участвовал, в то же время признавая, что за подробностями, из-за страшного беспорядка, уследить не могли.
15. Как всегда бывает в подобных обстоятельствах, до Отона сперва дошли только неясные и неопределенные слухи, и лишь потом появились раненые и рассказали о битве с большею достоверностью. Ни один из них не бежал, ни один не переметнулся к победителям, ни один, видя отчаянное положение своего императора, не думал тем не менее о собственной безопасности, но все дружно пришли к дверям Отона и стали вызывать его, а когда он показался на пороге, с криками, с горячей мольбою ловили его руки, падали к его ногам, плакали, просили не бросать их на произвол судьбы и не выдавать неприятелю, но располагать душами их и телами до последнего дыхания. Так умоляли они все, в один голос, а какой-то никому неведомый солдат выхватил меч и с криком: «Будь уверен, Цезарь, что каждый из нас предан тебе вот так — до смерти», — покончил с собой.
Но ничто не сломило решимости Отона. Обведя всех спокойным и светлым взором, он сказал: «Не лишайте же меня еще большего блага — права честно умереть за моих сограждан, столь замечательных и многочисленных. Если я в самом деле был достоин верховной власти над римлянами, мой долг не пощадить жизни ради отечества. Я знаю, что победа противника и не надежна, и не полна. Я далеко не убежден, что, победив, принесу римлянам столько же пользы, сколько отдав себя в жертву во имя мира и согласия, во имя того, чтобы Италии не довелось пережить такой же страшный день еще раз».
16. Вот что он сказал и, решительно отклонив все возражения, все попытки его утешить, велел уезжать друзьям, а также сенаторам, которые были подле него; тем, кого рядом не случилось, он отдал такое же распоряжение письменно, а чтобы обеспечить им безопасность и подобающие почести на пути домой, снабдил их особыми письмами к городским властям.
17. Был уже вечер. Император захотел пить, утолил жажду водою и принялся осматривать два своих меча, подолгу проверяя остроту каждого, потом один отложил, а другой взял подмышку и кликнул рабов. Ласково с ними беседуя, он роздал им деньги — одному побольше, другому поменьше, отнюдь не так, словно расточал чужое, но стараясь наградить каждого по заслугам
Как только вольноотпущенник вышел, Отон поставил меч острием вверх, держа оружие обеими руками, и упал на него. Воины, с громкими стонами сбежавшись к дому, отчаянно сокрушались и корили себя за то, что не уберегли императора и не помешали ему умереть ради них. Враги были уже совсем близко, и все-таки никто из города не ушел, но, украсив тело и сложив костер, они в полном вооружении провожали своего императора, и те, кому удалось подставить плечи под погребальное ложе, почитали это честью для себя, а остальные припадали к трупу, целуя рану, или ловили мертвые руки Отона, или же склонялись ниц в отдалении. А несколько человек, поднеся факелы к костру, покончили с собой, хотя, сколько было известно, никаких особых милостей от умершего не получали, а, с другой стороны, и особого гнева победителя не страшились. Но, по-видимому, никто из тираннов или царей во все времена не был одержим такой исступленною страстью властвовать, как исступленно желали эти люди повиноваться Отону. Даже после его смерти не покинуло их это желание, но осталось неколебимо, превратившись в жесточайшую ненависть к Вителлию.
Его жизнь порицали многие достойные люди, но не меньшее число — и не менее достойных людей — восхваляло его смерть. В самом деле, прожил он нисколько не чище Нерона, но умер гораздо благороднее.
Плутарх
Филопемен
1. Клеандр принадлежал к первому по знатности роду и был одним из самых влиятельных граждан в Мантинее. С ним произошло несчастие, и ему пришлось бежать из родного города. Он переселился в Мегалополь, главным образом потому, что там жил отец Филопемена, Кравгид, человек во всех отношениях прославленный и дружественно к нему расположенный. При жизни Кравгида Клеандр получал от него все необходимое; по смерти его он, в благодарность за гостеприимство, воспитал его сына-сироту, подобно тому, как, по словам Гомера, Феникс воспитал Ахилла. Поэтому духовное развитие мальчика с самого начала носило благородный, как бы царственный характер. Когда Филопемен вышел из детского возраста, заботу о его воспитании взяли на себя мегалопольские граждане Экдем и Мегалофан, друзья Аркесилая по Академии, которые более всех своих современников стремились поставить философию на службу государственной деятельности и практической жизни. Они освободили свою родину от тираннии1, тайно подготовив будущих убийц Аристодема; помогли Арату изгнать сикионского тиранна Никокла; по просьбе киренцев они поехали в Кирену, где были смуты и неурядицы, и установили там законность и порядок. Однако, наряду с прочими своими делами, они занимались и воспитанием Филопемена, стремясь, чтобы изучение философии сделало из него человека, полезного для всей Греции; ибо, как мать, родившая сына в старости, так и Греция, произведя его на свет много позже доблестных вождей древности, любила Филопемена исключительной любовью и содействовала росту его славы и его мощи. А один римлянин2 назвал его последним из эллинов, потому что после него Греция не дала уже ни одного великого мужа, достойного ее.
2. Филопемен не был безобразен3, как думают некоторые: доступна обозрению его статуя, еще и теперь находящаяся в Дельфах. Правда, мегарская хозяйка не узнала его, но, говорят, это произошло из-за его простоты в обращении и скромности в одежде. Узнав, что к ним идет ахейский стратег, она заспешила с обедом, а мужа ее случайно не было дома. В это время вошел Филопемен, одетый в простой военный плащ. Хозяйка приняла его за одного из приближенных Филопемена, за посланного вперед гонца, и попросила его помочь ей в приготовлениях к обеду. Филопемен тотчас сбросил плащ и стал колоть дрова. В это время вошел хозяин и, увидев это, воскликнул: «Что это значит, Филопемен?» «Только то, — отвечал тот на дорическом наречии, — что я плачусь за свою скверную наружность». Тит, насмехаясь над телосложением Филопемена, однажды сказал ему: «Какие у тебя прекрасные руки и ноги, Филопемен, а живота нет!» Действительно, в поясе он был слишком тонок. Впрочем, эта насмешка относилась скорее к войску Филопемена: у него были хорошая пехота и конница, а в деньгах он часто нуждался. Вот что рассказывают о Филопемене в школах.
3. Честолюбивый характер его был не вполне свободен от запальчивости и гнева. Стремясь соревноваться прежде всего с Эпаминондом, он упорно подражал ему, но только в энергии, благоразумии и неподкупности: гнев и задор мешали ему во время гражданских усобиц сохранять мягкость, душевное равновесие и гуманность, свойственные Эпаминонду. Поэтому Филопемена считали более способным к воинским подвигам, чем к проявлению гражданских добродетелей. И действительно, с самого детства он любил военное дело и охотно учился тому, что было полезно для этой цели, — вести бой в тяжелых доспехах и ездить верхом. Так как в нем замечали способности к борьбе, некоторые друзья и наставники советовали ему заняться атлетикой. Но Филопемен спросил, не повредят ли атлетические упражнения военным. Ему отвечали (как оно и было на самом деле), что телесные качества и образ жизни атлета и солдата во всем различны, особенно же отличаются упражнения и повседневное времяпрепровождение: атлеты долгим сном, постоянной сытостью, установленными движениями и покоем стараются развивать крепость тела и сохранять ее, так как она подвержена переменам при малейшем нарушении равновесия и отступлении от обычного образа жизни; тело солдата, напротив, должно быть приучено к любым переменам и превратностям, прежде всего — способно легко переносить недостаток еды и сна. Получив такой ответ, Филопемен не только сам отказался от профессии атлета и осмеял ее, но впоследствии, будучи стратегом, насколько это было в его власти, выводил из употребления всякого рода атлетические упражнения, предавая их позору и поруганию, так как они делают непригодными к боям людей, самых способных к ним от природы.
4. Расставшись с учителями и воспитателями, Филопемен стал участвовать в походах граждан в Лаконику, куда они вторгались для захвата добычи. Он приучал себя идти первым при выступлении в подход, последним — при возвращении из похода. В свободное время Филопемен укреплял тело либо охотою, придавая ему тем самым легкость и силу, либо земледельческими работами. У него было прекрасное поместье в двадцати стадиях от города. Туда он ходил каждый день после обеда или после ужина и ложился спать на первую попавшуюся постель из соломы, как любой из работников. Вставши рано утром, он работал вместе с виноградарями или пахарями и опять возвращался в город, где с друзьями и должностными лицами занимался общественными делами. Все, что он получал от походов, Филопемен тратил на лошадей, оружие и выкуп пленных, а в хозяйстве употреблял доходы от земледелия — самого честного средства приобрести богатство. На земледелие он не смотрел как на дело второстепенное, считая, что тому, кто не хочет брать чужого, совершенно необходимо приобретать свое. Он слушал рассуждения философов и читал их сочинения, впрочем, не все, а лишь те, которые, как он думал, могут способствовать нравственному усовершенствованию. В поэмах Гомера он обращал внимание на все места, которые, по его мнению, возбуждают мысли о мужестве, воспламеняют душу. Из других сочинений его постоянным чтением была прежде всего «Тактика» Эвангела и исторические сочинения об Александре; он был убежден, что если сочинение — не бесплодная болтовня, предназначенная для пустого времяпрепровождения, то слова переходят в дела. Схемы и чертежи, сделанные на табличках, Филопемен оставлял без внимания, а тактические теории рассматривал на местности: во время поездок он сам изучал теснины в гористых местах, обрывы на равнинах и всякие изменения в построении фаланги, когда она при переправе через реку или в узком проходе должна размыкаться и опять смыкаться, и задавал задачи своим спутникам. По-видимому, он сверх всякой меры пристрастился к военному делу, полюбил войну как чрезвычайно широкое поприще для проявления своего таланта, а на людей, не отдававшихся ей, смотрел с презрением, как на бездельников.
5. Когда Филопемену было уже тридцать лет, спартанский царь Клеомен ночью неожиданно напал на Мегалополь4 и, оттеснив караулы, ворвался внутрь города и занял площадь. Филопемен поспешил на помощь согражданам, но не мог изгнать неприятелей, хотя бился отважно и не щадя сил. Однако гражданам он дал возможность уйти незаметно, сражаясь с преследовавшим их неприятелем и привлекая на себя внимание Клеомена. Сам он с трудом ушел последним — раненый, потеряв коня. Жители удалились в Мессену. Клеомен послал к ним гонца с предложением возвратить им город со всем имуществом и область. Видя, что граждане с удовольствием готовы принять предложение и спешат вернуться на родину, Филопемен восстал против этого и удержал их, доказывая, что цель Клеомена — не возвратить им город, а приобрести себе новых граждан, чтобы вернее владеть городом. «Клеомен не может, — говорил он, — сидеть праздно в городе и охранять дома и пустые стены, но бросит и их, вынужденный к тому безлюдьем». Такими доводами он склонил граждан отказаться от их намерения, но Клеомен получил возможность разорить и разрушить большую часть города и уйти с богатой добычей.
6. Царь Антигон пришел на помощь ахейцам и вместе с ними выступил в поход против Клеомена, занимавшего высоты и проходы при Селласии. Он выстроил войско близ этого места, намереваясь напасть на Клеомена и вытеснить его с позиции. Филопемен вместе со своими согражданами в это время находился в рядах конницы: подле него стояли иллирийцы, прикрывая боевую линию; их было много и они были воинственны. Ахейцам было приказано оставаться в бездействии, не трогаясь с места, пока на другом фланге царь не поднимет на копье красный плащ. Когда вожди иллирийцев сделали попытку вытеснить спартанцев с позиции, а ахейцы, согласно приказанию, оставались в резерве, брат Клеомена, Эвклид, заметив образовавшуюся в неприятельском строю брешь, поспешно послал в обход своих самых быстрых легковооруженных воинов, приказав им напасть с тыла на иллирийцев, так как они остались без прикрытия конницы. Пока легковооруженные воины старались отвлечь и привести в замешательство иллирийцев, Филопемен заметил, что проще и вернее всего атаковать легковооруженных и что само стечение обстоятельств подсказывает этот маневр. Сначала он сообщил свой план начальникам царского войска, но не мог убедить их: они сочли Филопемена за сумасшедшего и отнеслись к нему с презрением, так как он еще не был настолько прославленным, чтобы доверили ему такое важное предприятие. Тогда Филопемен сам бросился в атаку и увлек за собою сограждан. Среди легковооруженных воинов произошло замешательство, затем началось бегство; много было убитых. Желая еще более воодушевить царское войско и скорее вступить в рукопашный бой с приведенными в смятение неприятелями, Филопемен соскочил с коня и, с великим трудом передвигаясь в своих всаднических доспехах, с очень тяжелым оружием, пошел по неровной, изобилующей ручьями и оврагами местности. В это время метательное копье пробило ему насквозь оба бедра. Удар был не смертельный, но сильный, так что острие вышло по другую сторону тела. Сперва он, будто скованный, совершенно не знал, что делать: ременная петля5 мешала извлечь копье из тела. Присутствовавшие не решались коснуться его, а между тем битва достигла высшей точки напряжения. Пылая гневом и жаждой славы, Филопемен рвался в бой; вытягивая вперед ноги и двигая ими попеременно, он сломал копье посередине и велел извлечь каждый обломок отдельно. Освободившись таким образом, он обнажил меч и пошел через первые ряды на врагов, воодушевив этим воинов и внушив стремление состязаться в храбрости. После победы Антигон, испытывая македонян, спрашивал их, почему они без его приказания двинули конницу. В свое оправдание они говорили, что против своей воли были вынуждены вступить в бой с противниками, потому что какой-то мальчишка из Мегалополя первый бросился вперед. Антигон рассмеялся и сказал: «Ну, так знайте, что этот мальчишка совершил дело великого полководца».
7. Благодаря этому Филопемен, как и следовало ожидать, приобрел славу. Антигон старался привлечь его к участию в совместном походе и предлагал ему должность командира и деньги; но Филопемен отказался, главным образом потому, что знал свой характер — строптивый, не склонный к подчинению. Однако, не желая оставаться без дела, в праздности, он, ради упражнения в военном деле, поехал воевать на Крит. Тут он прошел хорошую школу, находясь долгое время в кругу людей воинственных, способных умело пользоваться обстоятельствами при ведении войны, к тому же воздержных, привыкших к простому образу жизни.
Оттуда он вернулся к ахейцам в таком блеске славы, что тотчас же был назначен начальником конницы6. Всадники, которых он принял от своего предшественника, являлись с плохими лошаденками, какие им попадались, когда случался поход, или же вовсе уклонялись от походов, посылая вместо себя других, все были совершенно незнакомы с делом и трусливы; власти неизменно смотрели на это сквозь пальцы, потому что у ахейцев всадники были людьми очень влиятельными и в их руках было право награждать и наказывать. Но Филопемен не отступил, не отказался от своего намерения: он ездил по городам, старался в каждом юноше пробудить чувство честолюбия, наказывал тех, к кому надо было применять принудительные меры, устраивал учения, процессии, состязания в тех местах, где можно было рассчитывать на большое стечение зрителей. Действуя так, Филопемен в короткое время влил во всех изумительную силу и энергию и, что всего важнее, сделал всадников быстрыми и подвижными при выполнении как целым отрядом, так и в одиночку полуоборотов и полных оборотов; они достигли в этом такого совершенства, что целый отряд легкостью перестроения напоминал одно тело, движущееся по собственной воле. Во время жаркого сражения ахейцев с этолийцами и элейцами при реке Лариссе начальник элейской конницы Дамофант выехал вперед и бросился на Филопемена. Филопемен не уклонился от нападения, но успел первым нанести удар копьем и свалить Дамофанта. После его падения враги тотчас же обратились в бегство. Филопемен был в блеске славы: силой руки он не уступал никому из юношей, разумом — никому из старших; он был в равной мере способен и сам сражаться и командовать войском.
8. Арат первый возвысил и усилил Ахейский союз, до того времени слабый, раздробленный на отдельные города. Он соединил их, ввел эллинское, гуманное государственное устройство. Подобно тому, как в воде, когда небольшое количество мелких тел вдруг остановится, притекающие после наталкиваются на первые, задерживаются ими и образуют, благодаря взаимному сцеплению, крепкую, компактную массу, — подобно этому в тогдашней Греции, слабой, легко раздробляемой на отдельные города, ахейцы первые сплотились; окрестные города они частью присоединяли к себе, помогая им и освобождая их от тираннов, частью же привлекали к союзу своим единодушием и совершенством государственного устройства. Таким путем думали они сделать Пелопоннес единым телом, единой силой. Но при жизни Арата они еще подчинялись македонскому оружию, искали милости у Птолемея, потом у Антигона и Филиппа, которые вмешивались в дела Греции. Когда же Филопемен достиг первенствующего положения, ахейцы уже были равны силами с самыми могущественными противниками и перестали пользоваться покровительством иноземцев. Арат не выказывал большой склонности к военным походам и в большинстве случаев достигал успеха путем переговоров, благодаря своему мягкому характеру и дружбе с царями, как сказано в его жизнеописании. А Филопемен, доблестный воитель, умевший действовать оружием, удачливый и победоносный уже с самых первых сражений, вместе с силою возвысил и дух ахейцев: с ним они привыкли к победам и удаче в своих военных предприятиях.
9. Прежде всего Филопемен изменил построение войска и вооружение, которые у ахейцев были плохи: у них были в употреблении длинные щиты, тонкие и поэтому очень легкие, а кроме того, такие узкие, что не прикрывали тела, копья же их были гораздо короче сарисс. Благодаря легкости копий, ахейцы могли поражать врагов издали; но в рукопашном бою с врагом они были в менее выгодном положении. Построение мелкими отрядами ахейцам было незнакомо; у них было в употреблении построение фалангой, в которой копья не выставлялись вперед и щиты не смыкались, как в македонской фаланге; поэтому легко было их сбить с позиции и расстроить. Филопемен указал им на это и убедил вместо длинного щита и короткого копья употреблять круглый щит и сариссу, закрываться шлемом, панцирем и поножами и учиться стоять твердо на месте во время боя, а не бегать, как пельтасты7. Уговорив молодых людей вооружиться таким образом, Филопемен прежде всего одушевил их надеждою, что теперь они стали непобедимы, а затем дал очень полезное направление их любви к роскоши и большим тратам. Искоренить совсем эту страсть было невозможно: с давних пор они были заражены этим пустым, безрассудным соперничеством, любили пышные наряды, красили в пурпур покрывала, гордились обилием и убранством стола. Филопемен стал направлять их любовь к украшениям от предметов ненужных на предметы полезные и похвальные. Скоро он убедил всех урезать ежедневные расходы на личные потребности и употреблять деньги на то, чтобы отличаться красотой военного снаряжения. И вот можно было видеть такое зрелище: мастерские были наполнены кубками и Ферикловыми чашами, отданными в переплавку, там золотили панцири, серебрили щиты и уздечки; на ристалищах объезжали молодых коней; юноши упражнялись в полном вооружении; у женщин в руках были шлемы и перья, которые они красили, всаднические хитоны и солдатские плащи, вышитые разными цветами. Это зрелище увеличивало отвагу, возбуждало пыл, делало каждого отчаянным, готовым идти на всякую опасность. Действительно, в иных случаях роскошь влечет за собою изнеженность, расслабляет зрителей, так же как сила духа надламывается, если чувства испытывают постоянные уколы и беспокойство Напротив, роскошь в подобных предметах укрепляет и возвышает дух. Так, Ахилл у Гомера8 при виде нового оружия, положенного близ него, как бы приходит в экстаз и горит желанием пустить его в ход. Украсив так юношей, Филопемен велел им заниматься гимнастикой и упражняться в различных движениях, что они охотно и усердно выполняли. Боевой строй им чрезвычайно нравился: казалось, что плотность, которую он получает, несокрушима. К вооружению тело привыкало, оно начинало казаться легким; воины брали его в руки и носили с удовольствием благодаря его блеску и красоте, хотели сражаться в нем и как можно скорее померяться силою с врагами в решительном бою.
10. Тогда у ахейцев была война с тиранном спартанским Маханидом, который с большим, сильным войском угрожал всему Пелопоннесу. Когда пришло известие об его вторжении в Мантинейскую землю, Филопемен поспешно выступил против него со своим войском. Обе армии, в составе которых была почти вся военная сила граждан и большое число наемников, выстроились близ города. Когда начался рукопашный бой, Маханид со своими наемниками обратил в бегство копейщиков и тарентинцев9, стоявших впереди ахейцев; но вместо того, чтобы сейчас же идти на ахейцев и прорвать их тесно сплоченные ряды, он увлекся преследованием и прошел мимо фаланги ахейцев, остававшихся в боевом порядке. Несмотря на такую огромную неудачу в самом начале сражения, когда казалось, что все погибло безвозвратно, Филопемен делал вид, будто не обращает на это внимания и не видит никакой опасности. Заметив, какую ошибку сделали враги при преследовании, оторвавшись от своей фаланги и оставив за собой пустое пространство, он не пошел им навстречу, не помешал им преследовать бегущих, а дал им возможность пройти мимо и удалиться на значительное расстояние. Тотчас после этого он повел войско на спартанских гоплитов, видя, что их фаланга осталась без прикрытия, и ударил с фланга; между тем у спартанцев не было командира, и они не ожидали боя, так как считали себя полными победителями, видя, что Маханид преследует неприятеля. Отбросив их с большим для них уроном (говорят, что было убито более четырех тысяч), Филопемен бросился на Маханида, возвращавшегося с наемниками после преследования. Между ними был большой глубокий ров, и они разъезжали по разные стороны его друг против друга: один, желая переправиться и убежать, другой — помешать этому. Вид был такой, будто это не полководцы сражаются, а ловкий охотник Филопемен сошелся со зверем, вынужденным обороняться. Тут конь тиранна, сильный и горячий, с обоих боков окровавленный шпорами, отважился перескочить ров: выдвинув грудь вперед, он изо всех сил старался упереться передними ногами в противоположный край рва. В это время Симмий и Полиен, которые постоянно находились при Филопемене в сражениях и прикрывали его щитами, одновременно подлетели к этому месту с копьями, направленными на Маханида. Но Филопемен успел раньше их броситься ему навстречу. Видя, что лошадь Маханида поднятой головой заслоняет его тело, он заставил своего коня немного податься в сторону и, стиснув в руке копье, сильным ударом сбил Маханида с лошади. В этом положении Филопемен изображен на бронзовой статуе в Дельфах, поставленной ахейцами, высоко ценившими как его подвиг, так и вообще его командование в этом походе.
11. Говорят, во время Немейского праздника10 Филопемен, бывший во второй раз стратегом и незадолго до этого одержавший победу в битве при Мантинее, а в это время по случаю праздника ничем не занятый, сначала показал грекам свою фалангу в разукрашенном виде, производившую в лад, с большой быстротой и силой, привычные ей боевые движения. Потом, во время состязания кифаредов, Филопемен вошел в театр с молодыми людьми в военных плащах и пурпуровых нижних одеждах: они все были одних лет и превосходно развиты физически; они оказывали глубокое почтение начальнику и были полны юношеской гордости вследствие многочисленных славных сражений. Только что они вошли, как случайно кифаред Пилад, певший «Персов» Тимофея11, начал так:
| Дар для Эллады стяжал великий и славный — свободу. |
Торжественность стиха гармонировала со звучным голосом певца, зрители со всех сторон устремили взоры на Филопемена, раздались радостные рукоплескания: греки в надеждах и мечтах возвращались к славному прошлому и, исполнившись мужества, величием духа приближались к героям прежних времен.
12. Как молодой конь, неся непривычного седока, тоскует и робеет, так и ахейское войско во время сражений и опасностей под начальством другого полководца падало духом и обращало взоры к Филопемену, при одном виде его становясь сильным и смелым, благодаря вере в своего полководца: все замечали, что и противники, судя по их действиям, только ему одному из всех стратегов не могут смотреть в лицо, боятся его славы и имени. Так, македонский царь Филипп, думая, что если устранить Филопемена, то ахейцы устрашатся и вновь покорятся ему, тайно послал в Аргос убийц12. Когда его коварный замысел был раскрыт, он навлек на себя ярую ненависть греков. Беотийцы осаждали Мегары и надеялись скоро взять этот город. Вдруг среди них разнесся слух, оказавшийся неверным, будто Филопемен идет на помощь осажденным и находится уже близко; осаждающие бросили лестницы, уже приставленные к стенам, и бежали. Набид, спартанский тиранн, правивший после Маханида, внезапно захватил Мессену. Филопемен был тогда частным лицом и не командовал никаким войском. Ему не удалось убедить ахейского стратега Лисиппа оказать помощь мессенцам: тот говорил, что город безвозвратно потерян, так как неприятели уже находятся внутри его. Тогда Филопемен выступил сам со своими согражданами, которые, не дожидаясь его избрания по закону, пошли за ним, как за своим постоянным вождем, убежденные в его природном превосходстве. Он был уже близко от Мессены, и Набид, услыхав об этом, не стал ждать его, хотя и стоял лагерем в городе; он поспешно увел войско другими воротами, считая для себя счастьем благополучно уйти от Филопемена. Убежать ему удалось, а Мессена была освобождена.
13. Таковы славные дела Филопемена. Но вторичная поездка его на Крит по просьбе гортинцев, которые подвергались нападению врагов и хотели воевать под его началом, навлекла на Филопемена нарекания: говорили, что в то время как его отечество вело войну с Набидом, он уехал, чтобы уклониться от сражения или из честолюбивого желания в такой неподходящий момент отличиться перед чужими. Ведь мегалополитанцы терпели тогда величайшие бедствия из-за войны: они не выходили из стен города, сеяли на улицах, лишенные своей земли, ибо враги стояли лагерем чуть не у самых ворот. Между тем Филопемен, ведя войну с критянами и исполняя за морем обязанности военачальника, подавал врагам своим повод к обвинениям, будто он уклоняется от войны на родине. Впрочем, были и такие, кто говорил, что раз ахейцы выбрали в правители других, Филопемен, оставшись без должности, отдал свое время гортинцам, которые просили его быть военачальником. И действительно, ему чуждо было бездействие: он хотел, чтобы его способности военачальника и воина, подобно какому-нибудь другому предмету, всегда были в употреблении и в действии, как видно из его отзыва о царе Птолемее. Когда Птолемея восхваляли за то, что он каждый день в доспехах и с оружием в руках усердно занимается гимнастическими упражнениями, Филопемен сказал: «Да, но кто может относиться с уважением к царю, который в этом возрасте не показывает своих дарований на деле, а все еще учится?» Итак, мегалополитанцы негодовали на Филопемена за его отсутствие и считали это изменой. Они задумали изгнать его из отечества. Но этому воспрепятствовали ахейцы: они послали в Мегалополь стратега Аристена, который, хотя и был политическим противником Филопемена, все-таки не дал привести в исполнение этот приговор. Видя такое пренебрежение со стороны сограждан, Филопемен склонил к отпадению от Мегалополя много окрестных селений и подучил жителей говорить, что они не входили в состав городской общины и первоначально не были подчинены городу. Филопемен открыто поддержал это заявление их и в собрании ахейцев действовал в пользу врагов города. Но это произошло позже.
На Крите Филопемен вел войну на стороне гортинцев, но не открытую, благородную войну, как следовало пелопоннесцу и аркадянину: он усвоил критские нравы и, действуя против критян их же средствами — обманом, хитростью, воровскими уловками, засадами, — скоро показал, что они мальчишки, что против истинного искусства их хитрости бессмысленны и бесполезны.
14. Снискав уважение за совершенные подвиги, увенчанный славой, Филопемен возвратился в Пелопоннес. Он застал там такое положение дел: Филипп был побежден Титом13, а Набид воевал с ахейцами и римлянами. Тотчас выбранный военачальником, Филопемен отважился на морское сражение: но с ним случилось то же, что с Эпаминондом14: в морском бою он проявил меньше таланта и не стяжал себе славы. Впрочем, как рассказывают некоторые, Эпаминонд не хотел дать согражданам возможности вкусить выгод, доставляемых морем, чтобы, говоря словами Платона15, они незаметно не превратились из стойких гоплитов в моряков и не развратились; по этой причине он добровольно ушел из Азии и с островов, не сделав ничего замечательного. Между тем Филопемен был убежден, что его уменья вести сухопутную войну будет достаточно и для того, чтобы со славою воевать на море. И тут он понял, как много значит в любом искусстве упражнение, сколько силы придает оно людям, привыкшим к определенному делу. В морском бою Филопемен по своей неопытности оказался слабее противников; кроме того, он спустил на воду старый, хотя и знаменитый корабль16, сорок лет не бывший в употреблении; корабль дал течь, ехавшие на нем оказались в опасности. Узнав, что неприятели относятся к нему с пренебрежением, думая, что он совершенно изгнан с моря, и, упоенные гордостью, осаждают Гифий, Филопемен тотчас подошел с моря, когда они этого не ожидали и по случаю победы не соблюдали порядка. Он ночью высадил солдат, подвел их к неприятельскому лагерю, поджег палатки, спалил дотла лагерь и перебил много людей. Несколько дней спустя Набид вдруг появился перед ним на дороге в местах труднопроходимых и привел ахейцев в ужас: они думали, что нет надежды спастись из таких опасных мест, находящихся во власти неприятелей. Филопемен остановился, окинул взором окрестность и дальнейшими своими действиями доказал, что тактика есть венец военного искусства. Посредством незначительного перемещения он перестроил свою фалангу сообразно со сложившимся положением, легко без всякого смятения разрешил все трудности, напал на врагов и обратил их в беспорядочное бегство. Видя, что они бегут не к городу, а врассыпную (местность же была холмистая, покрытая лесом, с ручьями и оврагами и потому неудобная для конницы), он удержал своих воинов от преследования и еще засветло расположился лагерем. Догадываясь, что противники будут возвращаться в город по одному, по двое, в темноте, он разместил много ахейцев с кинжалами в засадах на пути к городу, близ ручьев и на холмах. Так погибли многие воины Набида: возвращаясь порознь, как кому привелось, они около города попадали в руки врагов, как птицы.
15. За это греки любили Филопемена и оказывали ему исключительный почет в театрах, на что втайне обижался честолюбивый Тит. Как римский консул, он считал себя вправе пользоваться большим уважением ахейцев, чем какой-то аркадянин; он считал, что его благодеяния ставят его гораздо выше Филопемена: ведь одним объявлением глашатая он даровал свободу Греции17, которая прежде того была в рабстве у Филиппа и македонян. По этой причине Тит прекратил войну с Набидом; но тот был коварно убит этолийцами18.
В Спарте произошли волнения. Филопемен воспользовался благоприятным моментом, чтобы напасть на Спарту, и заставил жителей — частью силой, частью путем убеждения — присоединиться к нему и передать город Ахейскому союзу, Филопемен стяжал себе огромную славу у ахеян тем, что присоединил к союзу город, такой прославленный и сильный; немаловажное было дело, что Спарта стала частью Ахайи. Филопемен привлек на свою сторону и спартанских аристократов, которые надеялись обрести в нем хранителя свободы. По этой причине, продав дом и имущество Набида, они решили вырученные сто двадцать талантов принести ему в подарок и отправили с этой целью посольство. Тут со всей ясностью обнаружилось, что он не только казался, но и был19 человеком в высшей степени благородным. Во-первых, никто из спартиатов не хотел вести с таким человеком разговор о подарке; все уклонялись от этого и, наконец, выбрали для этой цели Тимолая, с которым Филопемен был связан узами гостеприимства. По прибытии в Мегалополь Тимолай обедал у Филопемена, услышал его речь, полную достоинства, увидел вблизи простоту его жизни и понял, что его характер недоступен подкупу. Он умолчал о подарке, а, придумав какой-то другой повод своего приезда, уехал обратно. Его послали вторично, но произошло то же самое. При третьей поездке он с трудом изложил Филопемену свою просьбу и сообщил о расположении к нему своих сограждан. Филопемен выслушал его с удовольствием, сам приехал в Спарту и посоветовал спартанцам не подкупать друзей и честных людей, добрыми качествами которых можно пользоваться даром, а покупать и соблазнять негодяев, которые сеют смуту в городе, ведут его к погибели; надо зажать им рот взяткой, чтобы они меньше беспокоили сограждан; лучше отнимать свободу слова у врагов, чем у друзей. Так бескорыстен был Филопемен!
16. Ахейский стратег Диофан услышал, что спартанцы опять затеяли смуту. Он хотел наказать их, но они взялись за оружие и вызвали волнения в Пелопоннесе. Филопемен старался успокоить Диофана и умерить его гнев, указывая на то, что царь Антиох и римляне производят в Греции передвижения огромных войск, что именно на это правитель должен обращать внимание, не касаясь местных дел, а на иные проступки глядя сквозь падьцы. Диофан не слушал его, а вступил вместе с Титом в Лаконику, и они сейчас же двинулись на Спарту. Раздраженный этим, Филопемен решился на дело незаконное, трудно оправдываемое с точки зрения справедливости, но великое и с великим мужеством совершенное: он пришел в Спарту и, хотя был частным лицом, не пустил в город ахейского стратега и римского консула; волнения в городе он прекратил и вернул спартанцев в союз, в котором они состояли раньше.
А некоторое время спустя Филопемен, бывший тогда стратегом, в чем-то обвинил спартанцев, вернул на родину изгнанников и казнил, по свидетельству Полибия20, восемьдесят спартиатов, а по свидетельству Аристократа — триста пятьдесят. Стены города он срыл, значительную часть земли отрезал и отдал мегалополитанцам. Всех, кому тиранны дали право гражданства в Спарте, он переселил в Ахайю, кроме трех тысяч, оказывавших упорное неповиновение и не желавших уйти из Спарты; их он продал и, как бы в насмешку, построил на эти деньги в Мегалополе портик. Чтобы насытить свою ненависть к спартанцам, он, издеваясь над их незаслуженным несчастием, предпринял дело в высшей степени жестокое и беззаконное — отменил и уничтожил порядки, введенные Ликургом, заставил унаследованную от отцов систему воспитания спартанских детей и юношей переменить на ахейскую, имея в виду, что, живя по Ликурговым законам, спартанцы никогда не хотели смирить себя. Под гнетом страшных бедствий спартанцы позволили тогда Филопемену, так сказать, перерезать жилы своего государства и сделались ручными и смирными, но несколько спустя21 выпросили у римлян позволение отменить ахейские порядки и восстановили унаследованные от отцов учреждения, насколько это можно было сделать после таких гибельных бедствий.
17. Когда у римлян началась в Греции война с Антиохом, Филопемен был частным лицом. Видя, что Антиох сам сидит праздно в Халкиде и не по годам занят свадьбами22 и любовью к девушкам, а сирийцы в совершенном беспорядке, без командиров, праздно слоняются в городах, предаваясь роскоши, Филопемен досадовал, что он не занимает должности стратега у ахейцев, и говорил, что завидует победе римлян. «Будь я сейчас стратегом, — говорил он, — я перебил бы этих воинов в питейных домах». Победив Антиоха, римляне стали еще больше вмешиваться в дела Греции и подчинять своей власти ахейцев, вожаки которых склонялись на сторону римлян. Мощь римлян, по воле божества, распространялась все шире и шире: близка была цель, которой должна была достигнуть судьба в своем круговороте. Филопемен, как хороший кормчий, борющийся с волною, был вынужден в некоторых случаях покоряться обстоятельствам, но по большей части противился им, стараясь привлекать на сторону свободы людей, сильных словом и делом. Когда Аристен из Мегалополя, пользовавшийся большим влиянием среди ахейцев, но постоянно заискивавший перед римлянами, высказывал мнение, что ахейцы не должны противиться римлянам, не должны быть неуслужливыми по отношению к ним, Филопемен, говорят, молча, но с негодованием слушал его в Собрании, а под конец не мог сдержать себя и гневно сказал: «Негодяй, что ты торопишься увидеть роковой день Эллады?» Когда римский консул Маний23, победитель Антиоха, требовал от ахейцев, чтобы они позволили спартанским изгнанникам вернуться на родину, и Тит предъявлял такое же требование, Филопемен воспрепятствовал этому, но не из вражды к изгнанникам, а желая, чтобы это совершилось по воле его и ахейцев, а не по милости Тита и римлян. И действительно, став стратегом в следующем году, он сам возвратил изгнанников. Вот с какой враждебностью и ревностью он по своей гордости относился ко всякой чужой власти.
18. На семидесятом году жизни Филопемен был в восьмой раз ахейским стратегом. Он надеялся, что обстоятельства позволят ему не только время этого своего правления провести без войны, но и остаток жизни прожить в покое. Как болезни, по-видимому, ослабевают вместе с телесными силами, так и в греческих городах с истощением сил утихала страсть к раздорам. Но Немезида в конце жизни повалила Филопемена, как атлета, дотоле счастливо подвизавшегося на своем поприще. Когда в одном собрании присутствовавшие хвалили кого-то, считавшегося искусным стратегом, Филопемен, говорят, сказал: «Да разве стоит говорить о человеке, который живым был взят в плен неприятелями?». Через несколько дней мессенец Динократ, личный враг Филопемена, ненавистный всем за свою подлость и распутство, отторгнул Мессению от ахейцев и, по дошедшим сведениям, готовился захватить селение, называемое Колонидой. Филопемен в это время находился в Аргосе, больной лихорадкой. Получив это известие, он поспешил в Мегалополь и проехал в один день с лишком четыреста стадиев24. Оттуда он немедленно двинулся выручать Мессену с конницей, состоявшей из самых именитых, но совсем молодых граждан, добровольно принявших участие в походе по примеру Филопемена и из любви к нему. Подъехав к Мессене, они вступили в бой с Динократом, встретившим их у Эвандрова холма, и обратили его в бегство. Но их внезапно атаковал отряд в пятьсот человек, несший сторожевую службу в Мессенской области. Увидев это, ранее разбитые противники опять стали собираться на холмах. Филопемен, боясь очутиться в окружении и жалея своих всадников, начал отступать по труднопроходимой местности. Он сам был в хвосте отряда и часто устремлялся на врага, стараясь привлечь его внимание на себя; но враги не смели нападать на него, а только издали кричали и метались без всякого толка. Таким образом, часто останавливаясь ради спасения своих молодых всадников, пропуская их поодиночке мимо себя, Филопемен незаметно для себя остался один среди многочисленных врагов. Вступить в рукопашный бой с ним никто не отваживался; враги лишь издали стреляли в него, оттесняя к местам каменистым и обрывистым, где он едва справлялся с лошадью и ранил ее шпорами. Благодаря частым упражнениям, Филопемен, несмотря на старость, был легок и проворен, и годы нисколько не помешали бы ему спастись; но тогда он был ослаблен болезью, утомлен дорогой и потому отяжелел и уже насилу двигался. Лошадь его споткнулась, и он упал на землю. Падение было неудачным: у Филопемена оказалась поврежденной голова, и долгое время он лежал, не издавая ни звука, так что враги, считая его мертвым, стали поворачивать тело и снимать доспехи. Когда же он поднял голову и раскрыл глаза, все сразу бросились на него и, связав руки за спиной, с издевательствами и бранью повели человека, которому и во сне не снилось, что когда-нибудь он подвергнется такому поношению от Динократа.
19. Горожане, сильно возбужденные этим известием, собрались у ворот. При виде Филопемена, которого тащили таким недостойным образом, невзирая на его славу, прежние подвиги и трофеи, большинство их почувствовало жалость и сострадание к нему и даже заплакало; с презрением говорили они о человеческом могуществе, которое так ничтожно и ненадежно. Понемногу среди народа стали слышаться человеколюбивые речи о том, что надо помнить о прежних благодеяниях, о свободе, которую Филопемен возвратил им, изгнав тиранна Набида. Лишь немногие граждане в угоду Динократу требовали пытки и казни Филопемена как врага жестокого, непримиримого, который будет еще страшнее для Динократа, если останется жив после плена и поругания. Несмотря на эти толки, Филопемена все-таки посадили в так называемое «Казнохранилище» — подземелье, куда не проникал снаружи ни воздух, ни свет; оно не имело дверей, а запиралось большим камнем. Туда его спустили и, завалив вход камнем, поставили вокруг вооруженных людей.
А тем временем ахейские всадники, собравшись после бегства и видя, что Филопемен нигде не показывается, предположили, что он убит. Долго стояли они и звали его рассуждая между собою, что спасение их позорно и бесчестно, если они оставили в жертву врагам своего военачальника, не пощадившего жизни ради них. Потом они поехали дальше и, расспрашивая встречных, узнали о пленении Филопемена и разнесли эту весть по ахейским городам. Ахейцы сочли случившееся большим несчастием, решили отправить посольство к мессенцам и требовать выдачи пленного, а сами стали готовиться к походу.
20. Итак, вот чем были заняты ахейцы. Между тем Динократ, больше всего боясь времени, которое могло спасти Филопемена, с наступлением ночи, когда народ разошелся, отворил темницу и послал туда раба с ядом, приказав поднести яд Филопемену и подождать, пока он не выпьет. Филопемен лежал, закутавшись в плащ, но не спал, погруженный в горе и беспокойство. Увидав свет и стоящего близ него человека с чашей яда, он, с трудом придя в себя от слабости, сел. Взяв чашу, он спросил раба, не слыхал ли тот каких-нибудь вестей о всадниках, особенно о Ликорте. Раб ответил, что большая часть их спаслась бегством. Филопемен кивнул головою, ласково взглянул на него и сказал: «Хорошо. У нас дела не совсем еще плохи». Не произнесши больше ни слова, не испустив ни одного звука, он выпил яд и опять лег; немного хлопот доставил он яду и вскоре угас от слабости.
21. Как только слух об его кончине дошел до ахейцев, все города их охватило уныние и скорбь. Все способные носить оружие вместе с членами Совета собрались в Мегалополе, выбрали в стратеги Ликорта и, не откладывая мщения, вторглись в Мессению и опустошали страну до тех пор, пока мессенцы, по соглашению между собою, не впустили ахейцев в город. Динократ успел покончить с собою; что же касается остальных, то те, кто требовал казни Филопемена, должны были сами лишить себя жизни; а тех, кто советовал еще и пытать его, Ликорт арестовывал, чтобы они погибли в мучениях. Тело Филопемена ахейцы сожгли на месте, останки собрали в урну и отправились в обратный путь — не в беспорядке, не как попало, но соединив с погребением своего рода победную процессию. Вот какое зрелище можно было наблюдать. Ахейцы шли в венках, но в то же время плакали, врагов вели в оковах. Самую урну едва было видно из-за множества лент и венков; нес ее сын ахейского стратега Полибий, окруженный первыми ахейскими гражданами. За ними следовали воины в полном вооружении, на красиво убранных конях; они не были печальны, как следовало бы при такой скорби, но и не кичились победой. Жители городов и деревень, лежавших по дороге, выходили навстречу, как будто приветствуя Филопемена при возвращении из похода, касались урны и шли вместе с процессией в Мегалополь. К процессии присоединились старики, женщины и дети, и жалобные вопли их раздавались теперь по всему войску и доносились до самого города. Граждане жалели о Филопемене, горевали, думая, что вместе с ним они лишились первенства среди ахейцев. Он был похоронен с подобающей честью, и около его памятника были побиты камнями мессенские пленники. Много статуй его было воздвигнуто, много почестей было оказано ему по постановлению городов. Во время бедствий, которые испытывала Греция при разрушении Коринфа, один римлянин попытался все эти почести уничтожить и преследовать Филопемена судом, доказывая, словно тот был еще жив, что он был недругом римлян, относился к ним враждебно. Были произнесены речи; обвинителю возражал Полибий; ни Муммий, ни послы25 не решились лишить почестей такого славного мужа, хотя он часто шел против Тита и Мания. Как видно, они отделяли добродетель от выгоды, похвальное от полезного, держась убеждения, — правильного, похвального убеждения! — что получившие благодеяние всегда обязаны приносить благодарность своим благодетелям, что добродетельные люди должны чтить память людей добродетельных. Вот все, что мы знаем о Филопемене.
Список литературы
1. Плутарх. Сравнительные жизнеописания в двух томах, М.: Издательство «Наука», 1994. Издание второе, исправленное и дополненное. Т. II.
Перевод С.П. Маркиша, обработка перевода для настоящего переиздания С.С. Аверинцева, примечания М.Л. Гаспарова. (http://ancientrome.ru/antlitr/plutarch/sgo/otho-f.htm)
2. Гай Светоний Транквилл. Жизнеописание двенадцати цезарей. Москва—Ленинград: Academia, 1933.
Перевод Д. П. Кончаловского под общей редакцией А. М. Малецкого. (http://ancientrome.ru/antlitr/t.htm?a=1447008000)
Две первых темы, очевидно, родственны друг другу, хотя и не совпадают одна с другой. Они предполагают сравнительный анализ системы добродетелей и пороков, характеризующих образы политиков и правителей, описанных двумя античными биографами. Прежде всего, однако, неплохо было бы уточнить, чем именно политик отличается от правителя.

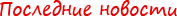




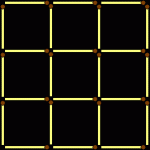







 (zip - application/zip)
(zip - application/zip)